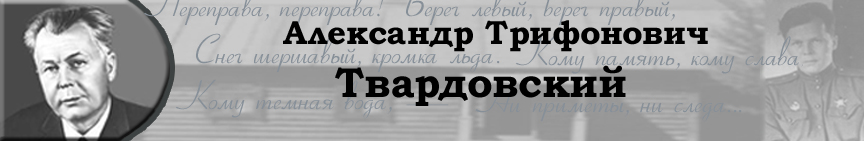 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
РАЗДУМЬЯ О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ |
|||||||
|
А в другом стихотворении — «Лежат они глухие и немые»— погибшие опять-таки выступают как соприсутствующие с живыми после своей смерти, но в отличие от того солдата, убитого «подо Ржевом», глухие и немые, И новое ощущение дистанции прошедшего времени и его целостности и насыщенности как бы материализуется, становится пластически ощутимым, осязаемым в удивительной следующей строчке — «под грузом плотной от годов земли». Плотность и груз времени ведут за собой множество ассоциаций, в том числе и ассоциаций с самой землей, на которой человек живет и в которую он возвращается, и с единством самой памяти, личности, человеческой общности, потока жизни и смерти. Дальнейшее движение стихотворения состоит в своеобразном перечислении «речью точной и нагой» галереи воевавших и погибших. Тут характерно, что особо выделены в перечне судьбы женщин и «девушек-девчонок». Выделенные рифмой уменьшительные «девчонки», «медсестренки» напоминают и про непринужденность товарищества фронтовых лет, и про неуходящую близость, и про дополнительное чувство щемящей боли, жалости не только ко всем погибшим, но еще сильнее к тем девчонкам, которые к мирной жизни и любви были призваны. А затем подчеркнуто и то, что дана была им слава, двойная доблесть и воинов — сыновей и дочерей, но «Ни те, ни эти, в смертный час тоскуя, // Верней всего, не думали о ней». Так в двух заключительных строчках вскрываются еще более глубинные пласты поэтической мысли-переживания: и еще одно напоминание о семейном начале, символе всей этой человеческой общности, и об ее героизме, и о массовости, скромности этого героизма, и о реальном ужасе тоски смертного часа, заново пережитого вместе с ними теперь поэтом, всеми нами, и опять новое чувство некоего вопроса, проникновение в тайну — «верней всего». Поражает также по сравнению со всеми предшествующими стихами на сходную тему предельная краткость и обычная для поэтики Твардовского этих лет как бы фрагментарность, отрывочность столь богатого мыслями, ассоциациями лирического высказывания. Впрочем, мы вспоминаем и такие же как бы фрагментарные стихи военного времени, как «Две строчки», и ряд других, начала 30-х годов, с мотивом памяти, связи времен, связи с другими людьми. Но здесь прошлое еще более непосредственно сливается с настоящим, сохраняя и свою отдельность, самостоятельное бытие. И еще обнаженней сила сердечной боли, даже своеобразной муки слова, стремящегося его выразить. И краткость непринужденной речи парадоксально соединяется с относительной длиной фразы, заполняющей все стихотворение (в первом — шесть, во втором даже тринадцать строчек) и ее сложной, несимметричной или диссимметричной синтаксической, ритмической конструкцией, чередованием рифм, разнообразием и обилием дополнительных повторов. «Не о том же речь...», а через строчку опять «речь не о том». И в этих же шести строчках три раза, кроме того, повторяется «том», три раза «что», три раза «не», три раза «все же», два раза «кто», два раза «но». Характерно, что повторяются самые неопределенные или мало, или лишь косвенно значащие слова. Это усиливает и эффект многозначности, и чувство напряженности раздумья, как бы возврата смысла и чувства к самому себе и его нагнетания, поступательного движения проникающей в самую глубину души интонации, лиризма. Продолжаются и другие мотивы памяти, и также обновляется их контекст. И относительно увеличивается роль воспоминания поэта о первой полосе своей жизни, освещенной теперь новым светом. А в самой структуре стихов-воспоминаний возникают дополнительные ярусы, многослойность, вместе со стремлением лучом памяти вырвать некоторые концентрирующие весь процесс жизни события, моменты времени. В некоторых случаях сопоставления «теперь» и «прежде» приобретают многократный характер и обрастают дополнительными ассоциациями («Который год мне снится, повторяясь»). Иногда совмещение настоящего и прошлого или их взаимопереход осуществляется начальными деталями-сигналами, которые связываются с другими деталями прошлого и настоящего, неожиданными, внешне алогичными переходами, соответствующими душевной музыке. Например, «И жаворонок, сверлящий небо» или «погубленных березок вялый лист». Так естественно преодолевается та «умственность», тот рассудочный рационализм, следы которого поэт считал своей главной слабостью. Наибольшего развития и многосторонности тема, пафос и поэтика памяти достигают в лирическом цикле «Памяти матери» и «На сеновале». Эти произведения в значительной мере подытоживают весь путь памяти Твардовского, начиная с периода первых стихов о матери 1927 года и стихов о судьбах крестьянской семьи («Братья» и другие). И в этих судьбах личных, судьбах семейных выражались судьбы народные, судьбы человеческие, всей жизни на земле — и судьбы многолетнего труда души поэта. Сливаясь с темами ответственности, единства потока жизни и смерти, «дома», человеческих истоков и преемственности, человеческой общности, начиная с общности семьи и кончая общностью всех людей, живых и мертвых, — человека среди людей, и с главной темой последнего Твардовского — путей времени, уроков пути, его цены и оценки. Правда памяти и безусловность ее права — это реальность правды настоящего и будущего; без этого люди превращаются в «непомнящих родства». И эта правда несет в себе реальный залог правды и силы дальнейшего пути, ибо «И опыт — наш почтенный лекарь, // Подчас причудливо крутой,— // Нам подносил по воле века // Его целительный настой». Целительный! Именно поэтому в «На сеновале» напоминается и тог «завет первоначальных дней», о котором говорилось в начале этой книги. Дальнейшее усиление права и обязанности памяти развивают саму поэтику художественной памяти. Она становится еще более многоярусной, более подвижной, более насыщенной разными людьми и самим «я». Эта многоярусная подвижность достигла вершинного художественного выражения в цикле «Памяти матери», но проявляется и в коротком стихотворении из шестнадцати строк, в искусстве иной раз в одной строке, четверостишии совместить два, даже три и более пласта времени в едином акте художественной памяти, включая и реальность залога будущего в настоящем. В памяти мертвые оживают даже тогда, когда они лежат «глухие и немые». И они могут, как живые, прямо высказаться тогда и там, когда и где смолчат теперешние живые. Высказаться и вместе с «другом-потомком». Тут неожиданная перекличка и с серией мотивов памяти, совмещенных пластов времени в ходе жизни-смерти у Заболоцкого, вплоть до характерного для Заболоцкого мотива воспоминания о будущем. Право «памяти живой» таким образом переходит в право жизни на бессмертие. У Заболоцкого это право переходило в идею бессмертия, как целостной цепочки метаморфоз единого субстрата, даже единого сознающего себя человека, личности. У Твардовского бессмертие состоит не только в единстве цепочки поколений, времен, но и в бесконечной целостности любого отдельного звена этой цепочки, если оно достаточно насыщено полнотой времени, как деяния и общности человека среди людей. Памятью и отдельного человека, и его общности, и даже памятью всей жизни на земле. Да, теперь появляется в лирике Твардовского и этот, несколько неожиданный на первый взгляд, мотив памяти всей жизни на земле, матери-земли и даже космоса. Отсюда особая трактовка темы природы. В стихах последних лет в эту тему включается новый мотив, который можно почтить памятью самой природы — в стихотворениях «Как неприютно чтим соснам в парке» (1965),«Газон сутра из-под машинки» (1966), «Береза» (1966), а более косвенно — во всех почти случаях, когда он говорит о природе. Это и «память сосен», вспоминающих о самих себе, это и память «земли», которая вспоминает о своем прошлом бытии, как лесной глуши, в этом городском газоне. А годичные круги ствола березы — материальное выражение, образ этого единства, закрепленного одним живущим организмом. Главной непосредственной темой пейзаж является только в сравнительно небольшом количестве стихотворений, хотя все же около 20 процентов от общего количества, то есть больше, чем когда-либо раньше у Твардовского. А качественно значение их в творчестве поэта еще резче возрастает, и все они принадлежат к лучшим образцам русской пейзажной лирики. И те или другие мотивы природы проходят теперь через подавляющее большинство стихотворений Твардовского, но не за счет Географического расширения «путешествий». Отпадают мотивы борьбы с природой, ее преобразования человеком. Теперь Твардовский просто смотрит на природу, не поучая и не поучаясь. Он по-прежнему не касается внутренних антагонизмов природы, но он и не ищет в ней гармонии, у него полностью отсутствует столь распространенный в нашей лирике тех лет и продолжающийся посейчас мотив поисков утешительного или целительного начала в природе или стремления подражать ее естественным законам. Природа — источник красоты и ценности жизни («Спасибо за утро такое») и непреложных законов самого времени («Здравствуй, любая пора»). Но видит Твардовский в природе и ее, так сказать, собственные горести и заботы, и ее движение. Все пейзажи насыщены, как и раньше у Твардовского, внутренней динамикой. Отсюда характерное стихотворение, в котором весь пейзаж передан через определения того, чего «еще нет», но что может или должно произойти в ближайшем будущем («Там-сям дымок садового костра»). Опять излюбленный принцип Твардовского — принцип движущегося дня, включающего в себя непосредственно предшествующее и переход в нечто другое. Сейчас — с еще более глубоким проникновением именно в текучесть, подвижность переходов и конкретность признаков самой изменяемости. И еще более, чем во все предыдущие периоды, движение природы — насквозь психологично и одухотворенно; ель во время мороза «опасается» стряхнуть с себя хотя бы одну снежинку-порошинку. Целый ряд олицетворений, одушевленных лиц природы, и отдельных, и собирательных, коллективных (как эти сосны в парке), проходит теперь через изображение природы Твардовским. Очень много пейзажей-метафор человеческих переживаний и этапов человеческой жизни. Например, осенние пейзажи. Однако метафоры-символы никогда не переходят в аллегорию; уподобление совмещается с конкретностью и точностью неповторимого изображения данной природы, вместе с неповторимым изображением именно данного душевного состояния, многослойным богатством ассоциативной связи с памятью человека и самого бытия, единством и подвижностью времени, потока жизни и смерти.
Перейти на страницу -> 1 2 3 5
|
||||||