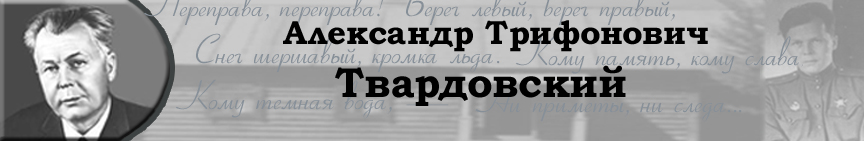 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
АВТОБИОГРАФИЯ Родился я в Смоленщине, в 1910 году, 21 июня, на «хуторе пустоши Столпово», как назывался в бумагах клочок земли, приобретенный моим отцом, Трифоном Гордеевичем Твардовским, через Поземельный крестьянский банк с выплатой в рассрочку. Земля эта — десять с небольшим десятин, — вся в мелких болотцах — «оборках», как их у нас называли, и вся заросшая лозняком, ельником, березкой, — была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата и многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк, земля эта была дорога до святости. И нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но нашей «земле»—нашему «имению», как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Местность эта была довольно дикая, в стороне от дорог, и отец, замечательный мастер кузнечного дела, вскоре закрыл кузницу, решив жить с земли. Но ему то и дело приходилось обращаться к молотку: арендовать в отходе чужой горн и наковальню, работая исполу. В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно и, может быть, тем труднее, что наша фамилия в обычном обиходе снабжалась еще шутливо-благожелательным или ироническим добавлением «пан», как бы обязывая отца тянуться изо всех сил, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать ее. Между прочим, он любил носить шляпу, что в нашей местности, где он был человек «пришлый», не коренной, выглядело странностью и даже некоторым вызовом, и нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было «не как у людей». Отец был человеком грамотным и даже начитанным по-деревенски. Книга не являлась редкостью в нашем домашнем обиходе. Целые зимние вечера у нас часто отдавались чтению вслух какой-либо книги. Первое мое знакомство с «Полтавой» и «Дубровским» Пушкина, «Тарасом Бульбой» Гоголя, популярнейшими стихотворениями Лермонтова, Некрасова, А. К. Толстого, Никитина произошло таким именно образом. Отец и на память знал много стихов: «Бородино», «Князя Курбского», чуть ли не всего ершовского «Конька-Горбунка». Кроме того, он любил и умел петь, смолоду даже отличался в церковном хоре. Обнаружив, что слова общеизвестной «Коробушки» только малая часть «Коробейников» Некрасова, он певал при случае целиком всю эту поэму. Мать моя, Мария Митрофановна, была всегда очень впечатлительна и чутка, даже не без сентиментальности, ко многому, что находилось вне практических, житейских интересов крестьянского двора, хлопот и забот хозяйки в большой многодетной семье. Ее до слез трогал звук пастушьей трубы где-нибудь вдалеке за нашими хуторскими кустами и болотцами, или отголосок песни с далеких деревенских полей, или, например, запах первого молодого сена, вид какого-нибудь одинокого деревца и т. п. Стихи писать я начал до овладения первоначальной грамотой. Хорошо помню, что первое мое стихотворение, обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнезд, я пытался записать, еще не зная всех букв алфавита и, конечно, не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни лада, ни ряда — ничего от стиха, но я отчетливо помню, что было страстное, горячее до сердцебиения желание всего этого — и лада, и ряда, и музыки, — желание родить их на свет, и немедленно, — чувство, сопутствующее и доныне всякому новому замыслу. Что стихи можно сочинять самому, я понял в связи с тем, что гостивший у нас в голодное время летом дальний наш городской родственник по материнской линии, хромой гимназист, как-то прочел по просьбе отца стихи собственного сочинения «Осень»: Листья давно облетели, И голые сучья торчат… Строки эти, помню, потрясли меня тогда своей выразительностью: «голые сучья» — это было так просто, обыкновенные слова, которые говорятся всеми, но это были стихи, звучащие как из книги. С того времени я и пишу. Из первых стихов, внушивших мне какую-то уверенность в способности к этому делу, помню строчки, написанные, как видно, под влиянием пушкинского «Вурдалака»: Раз я поздней порой Шел от Вознова домой. Трусоват я был немного, И страшна была дорога: На лужайке меж ракит Шупень старый был убит… Речь шла об одинокой могиле на середине пути до деревни Ковалево, где жил наш родственник Михаило Вознов. Похоронен в ней был некто Шупень, убитый на том месте. И хотя никаких ракит там поблизости не было, никто из домашних не попрекнул меня этой неточностью: зато было складно. По-разному благосклонно и по-разному с тревогой относились мои родители к тому, что я стал сочинять стихи. Отцу, человеку очень честолюбивому, это было лестно, но из книг он знал, что писательство не сулит больших выгод, что писатели бывают и не знаменитые, безденежные, живущие на чердаках и голодающие. Мать, видя мою приверженность к таким необычным занятиям, по-своему чуяла в ней некую печальную предназначенность моей судьбы и жалела меня. Лет тринадцати я как-то показал свои стихи одному молодому учителю. Ничуть не шутя, он сказал, что так теперь писать не годится: все у меня до слова, понятно, а нужно, чтобы ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано, — таковы современные литературные требования. Он показал мне журналы с некоторыми образцами тогдашней — начала двадцатых годов — поэзии. Какое-то время я упорно, добивался в своих стихах непонятности. Это долго не удавалось мне, и я пережил тогда, пожалуй, первое по времени горькое сомнение в своих способностях. Помнится, я, наконец, написал что-то уж настолько непонятное ни с какого конца, что ни одной строчки вспомнить не могу оттуда и не знаю даже, о чем там шла речь. Помню лишь факт написания чего-то такого. С 1924 года я начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет. Писал о неисправных мостах, о комсомольских субботниках о злоупотреблениях местных властей и т. п. Изредка заметки печатались. Это делало меня, рядового сельского комсомольца, в глазах моих сверстников и вообще окрестных жителей лицом значительным. Ко мне обращались с жалобами, с предложениями написать о том-то и том-то, «протянуть» такого-то в газете... Потом я отважился послать и стихи. В газете «Смоленская деревня» летом 1925 года появилось мое первое напечатанное стихотворение «Новая изба». Начиналось оно так: Пахнет свежей сосновой смолою, Желтоватые стены блестят. Хорошо заживем мы с весною Здесь на новый, советский лад… После этого я, собрав с десяток стихотворений, отправился в Смоленск к М. В. Исаковскому, работавшему там в редакции газеты «Рабочий путь». Принял он меня приветливо, отобрав часть стихотворений, вызвал художника, который зарисовал меня, и вскоре в деревню пришла газета со стихами и портретом «селькора — поэта А. Твардовского». Михаилу Исаковскому, земляку, а впоследствии другу, я очень многим обязан в своем развитии. Он, может быть, единственный из советских поэтов, чье непосредственное влияние я всегда признаю и считаю, что оно было благотворным для меня. В стихах своего земляка, уже известного в наших краях поэта, я увидел, что предметом поэзии может и должна быть окружающая меня жизнь советской деревни, наша непритязательная смоленская природа, собственный мой мир впечатлений, чувств, душевных привязанностей. Пример его поэзии обратил меня в моих юношеских опытах к существенной объективной теме, к стремлению рассказывать и говорить в стихах о чем-то интересном не только для меня, но и для тех простых, не искушенных в литературном отношении людей, среди которых я продолжал жить. Ко всему этому, конечно, необходима оговорка, что писал я тогда очень плохо, ученически беспомощно, подражательно. В развитии и росте моего литературного поколения было, мне кажется, самым трудным и для многих моих сверстников губительным то, что мы, втягиваясь в литературную работу, выступая в печати и даже становясь уже «профессиональными» литераторами, оставались людьми без сколько-нибудь серьезной общей культуры, без образования. Поверхностная начитанность, некоторая осведомленность в «малых секретах» ремесла питала в нас опасные иллюзии. Обучение мое прервалось, по существу, с окончанием сельской школы. Годы, назначенные для нормальной и последовательной учебы, ушли. Восемнадцатилетним парнем я приехал в Смоленск, где не мог долго устроиться не только на учебу, но даже на работу — по тем временам это было еще не легко, тем более что специальности у меня никакой не было. Поневоле пришлось принимать за источник существования грошовый литературный заработок и обивать пороги редакций. Я и тогда понимал незавидность такого положения, но отступать было некуда, — в деревню я вернуться не мог, а молодость позволяла видеть впереди, в недалеком будущем только хорошее. Когда в московском «толстом» журнале «Октябрь» М. А. Светлов напечатал мои стихи и кто-то где-то отметил их в критике, я заявился в Москву. Но получилось примерно то же самое, что со Смоленском. Меня изредка печатали, кто-то одобрял мои опыты, поддерживал ребяческие надежды, но зарабатывал я ненамного больше, чем в Смоленске, и жил по углам, койкам, слонялся по редакциям, и меня все заметнее относило куда-то в сторону от прямого и трудного пути настоящей учёбы, настоящей жизни. Зимой тридцатого года я вернулся в Смоленск и прожил там лет шесть-семь, до появления в печати поэмы «Страна Муравия». Период этот — может быть, самый решающий и значительный в моей литературной судьбе. Это были годы великого переустройства деревни на основе коллективизации, и это время явилось для меня тем же, чем для более старшего поколения — Октябрьская революция и гражданская война. Все то, что происходило тогда в деревне, касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле. Именно этим годам я обязан своим поэтическим рождением. В Смоленске я наконец принялся за нормальное учение. С помощью ныне покойного смоленского партийного работника А. Н. Локтева поступил я в педагогический институт без приемных испытаний, но с обязательством сдать в первый год все необходимые предметы за среднюю школу, в которой я не учился. Мне удалось в первый же год выровняться с моими однокурсниками, успешно закончить второй курс, с третьего я ушел по сложившимся обстоятельствам и доучивался уже в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ), куда поступил осенью тридцать шестого года. Эти годы учебы и работы в Смоленске навсегда отмечены для меня высоким душевным подъемом. Никаким сравнением я не мог бы преувеличить испытанную тогда впервые радость приобщения к миру идей и образов, открывшихся мне со страниц книг, о существовании которых я ранее не имел понятия. Но, может быть, все это было бы для меня «прохождением» институтской программы, если бы одновременно меня не захватил всего целиком другой мир — реальный нынешний мир потрясений, борь- бы, перемен, происходивших в те годы в деревне. Отрываясь от книг и учебы, я ездил в колхозы в качестве корреспондента областных газет, вникал со страстью во все, что составляло собою новый, впервые складывающийся строй сельской жизни, писал статьи, корреспонденции и вел всякие записи, за каждой поездкой отмечая для себя то новое, что открылось мне в сложном процессе становления колхозной жизни. Около этого времени я совсем разучился писать стихи, как писал их прежде, пережил крайнее отвращение к «стихотворству» — составлению строк определенного размера с обязательным набором эпитетов, подыскиванием редких рифм и ассонансов, стремлением попасть в известный, принятый в тогдашнем поэтическом обиходе тон. Моя поэма «Путь к социализму», озаглавленная так по названию колхоза, о котором шла речь, была сознательной попыткой говорить в стихах обычными для разговорного, делового, отнюдь не «поэтического» обихода словами: В одной из комнат бывшего барского дома Насыпан по самые окна овес, Окна побиты еще во время погрома И щитами завешаны из соломы, Чтобы овес не пророс От солнца и сырости в помещенье. На общем хранится зерно попеченье... Поэма, выпущенная по рекомендации очень благожелательного к молодым Эд. Багрицкого в 1931 году издательством «Молодая гвардия», встречена была в печати в общем положительно, но я не мог не почувствовать сам, что такие стихи — езда со спущенными вожжами, утрата ритмической дисциплины стиха, проще говоря, не поэзия. И вернуться к стихам в прежнем, привычном духе я уже не мог. Новые возможности погрезились мне в организации стиха из его элементов, входящих в живую речь, — из оборотов и ритмов пословицы, поговорки, присказки. Вторая моя поэма «Вступление», вышедшая в Смоленске в 1932 году, была данью таким именно односторонним поискам «естественности» стиха: Жил на свете Федот, Был про него анекдот: — Федот, каков умолот? — Как и в прошлый год. — А каков укос? — Чуть не целый воз. — А как насчет сала? — Кошка украла... По материалу, содержанию, даже намечавшимся в общих чертах образам обе эти поэмы подготовляли «Страну Муравию», написанную в 1934—1936 годах. Но для этой новой моей вещи я должен был на собственном трудном опыте разувериться в возможности стиха, который утрачивает свои основные природные начала: музыкально-песенную основу, энергию выражения, особую эмоциональную наполненность. Пристальное знакомство с образцами большой отечественной и мировой поэзии и прозы подарило мне еще такое «открытие», как законность условности в изображении действительности средствами искусства. Условность хотя бы фантастического сюжета, преувеличение и смещение деталей живого мира в художественном произведении перестали мне казаться пережиточными моментами искусства, противоречащими реализму изображения. А то, наблюденное и добытое из жизни мною лично, что я носил в душе, гнало меня к новой работе, к новым поискам. То, что я знаю о жизни, — казалось мне тогда, — я знаю лучше, подробней и достоверней всех живущих на свете, и я должен об этом рассказать. Я до сих пор считаю такое чувство не только законных, но и обязательным в осуществлении всякого серьезного замысла. Историю замысла «Страны Муравии», подсказанного одним из тогдашних выступлений А. А. Фадеева, я позднее изложил в специальной заметке «О «Стране Муравии». Со «Страны Муравии», встретившей одобрительный прием у читателей и критики, я начинаю счет своим писаниям, которые могут характеризовать меня как литератора. Выход этой книги в свет послужил причиной значительных перемен и в моей личной жизни. Я переехал в Москву; в 1938 году вступил в ряды Коммунистической партии; в 1939 году окончил МИФЛИ, выпустил книгу новых стихов «Сельская хроника». Осенью 1939 года я был призван в армию и участвовал в освободительном походе наших войск в Западную Белоруссию. По окончании похода я был уволен в запас, но вскоре вновь призван и, уже в офицерском звании, но в той же должности спец-корреспондента военной газеты, участвовал в войне с Финляндией. Месяцы фронтовой работы в условиях суровой зимы сорокового года в какой-то мере предварили для меня военные впечатления Великой Отечественной войны. А мое участие в создании фельетонного персонажа «Васи Теркина» в газете «На страже Родины» (ЛВО) — это, по существу, начало моей основной литературной работы в годы Отечественной войны. Но дело в том, что глубина всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига в Отечественной войне с первых дней отличили ее от каких бы то ни было иных войн, и тем более военных кампаний. Это, конечно, и определило существенное отличие теперешнего «Василия Теркина» от того, прежнего «Васи». Историю зарождения и создания этой моей книги я пытался подробнее изложить в своей статье «Как был написан «Василий Теркин» (Ответ читателям)». Здесь же скажу только, что «Книга про бойца», каково бы ни было ее собственно литературное значение, в годы войны была для меня истинным счастьем: она дала мне ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся, непринужденной форме изложения. «Теркин» был для меня во взаимоотношениях поэта с его читателем — воюющим советским человеком — моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой. разговором по душам и репликой к случаю. Впрочем, все это, мне кажется, более удачно выражено в заключительной главе самой книги. Почти одновременно с «Теркиным» и стихами «Фронтовой хроники» я начал еще на войне, но закончил уже после войны поэму «Дом у дороги». Тема ее — война, но с иной стороны, чем в «Теркине», — со стороны дома, семьи, жены и детей солдата, переживших войну. Эпиграфом этой книги могли бы быть строки, взятые из нее же: Давайте, люди, никогда Об этом не забудем. Всегда наряду со стихами я писал прозу — корреспонденции, очерки, статьи, рассказы; выпустил еще до «Муравии» нечто вроде небольшой повести — «Дневник председателя колхоза» — результат моих деревенских записей «для себя». В 1947 году опубликовал книгу о минувшей войне «Родина и чужбина»; вместе с последующими очерками и рассказами она входит в 4-й том моего пятитомного Собрания сочинений. В замыслах же и предположениях на будущее проза издавна занимает у меня, пожалуй, наиболее обширное место. Связанный со Смоленщиной не только памятью отчих мест, детства и ранней юности, годами жизни в Смоленске в пору моего литературного ученичества, но и годами войны, когда вместе с частями фронта вступал на пепелища освобождаемой от оккупантов родной стороны, я и в послевоенные годы не утрачивал этой связи. Неудивительно, что мотивы и образы «смоленской стороны» так часто представлены во всех моих стихах и поэмах, рассказах и очерках. Но так же естественно, что с годами, с расширением жизненного и литературно-общественного опыта, поездками по стране и за ее пределы — расширялось и, так сказать, поле действительности, становившейся основой моих писаний. Могу сказать, что если Смоленщина, со всей ее неповторимой и бесценной для меня памятью, досталась мне, как говорится, от отца с матерью, то уже, например, Сибирь, с ее суровой и величественной красой, природными богатствами, гигантскими стройками и сказочно широкими перспективами, я обретал для себя уже сам в зрелые годы. Правда, интерес и влечение к Сибири и Дальнему Востоку были у меня задолго до моих поездок в эти края, с отроческих лет, под влиянием книг и отчасти переселенческих мечтаний и планов отца, то и дело возникавших у него в полном противоречии с привязанностью к своему загорьевскому «имению». Эту новую мою связь — связь с «иными краями» — я сознательно развиваю и укрепляю с конца сороковых годов, когда впервые побывал на востоке страны, и она непосредственно сказалась в главной моей работе пятидесятых годов — книге «За далью — даль». Поэмы мои более известны читателю, чем лирика, — они чаще переиздавались, особенно «Василий Теркин», и куда больше привлекали внимание критики в статьях. По-видимому, это не случайно. Но для меня лирика отнюдь не представляется чем-то второочередным в моей работе, и она, мне кажется, органически, неотрывно связана с поэмами. Мотивы ее, как это мне, автору, хорошо известно, то предшествуют основному содержанию и главным чертам формы больших вещей, то дополняют их, развивая мысли, не нашедшие места или едва намеченные в поэмах. Более того, одни из лирических стихотворений, даже опубликованных в печати, затем входили целиком или несколькими строфами в текст той или иной из поэм и прекращали самостоятельное существование; другие складывались в ходе работы над поэмами, но, как говорится, отпочковывались от них и приобретали самостоятельное существование. Внимательному читателю не трудно обнаружить это родство и взаимозависимость моих отдельных стихотворений с поэмами. Разумеется, жанровое наименование «лирика» в отношении многих моих стихотворений в порядочной степени условно, если иметь в виду не только объем, иногда явно превышающий обычные нормы лирических стихов (например, «Ленин и печник», «Еще про Данилу» и др.), но и преобладающую, особенно в довоенные годы и в годы войны, повествовательно сюжетную основу моей лирики. Впрочем, не менее условным является и отнесение поэм к собственно эпическому жанру: во всех поэмах, как это отмечалось и критикой, собственно лирическое начало не ограничено традиционными «отступлениями», но нередко служит и сюжетно-композиционным задачам и сообщает всему изложению смешанный, тесно переплетенный повествовательно-лирический тон и строй. Одновременно с книгой «За далью — даль», а также лирикой, очерками и статьями в эти годы писалась поэма «Теркин на том свете». Она, конечно, не является «продолжением» «Василия Теркина» в смысле многочисленных читательских предложений на этот счет, по поводу которых я давал свои объяснения в «Ответе читателям», хотя и связана с «Книгой про бойца» непосредственно взятым из нее образом героя. Она возникла из иного, главным образом сатирического задания и обращена к некоторым сторонам послевоенной действительности в том духе, как их оценивали XX и XXII съезды нашей партии. В эти же годы значительную часть своего рабочего времени уделял редактированию журнала «Новый мир». Как только автобиография оставляет форму прошедшего времени, продолжение ее как таковой становится, по крайней мере, нескромным и уж во всяком случае не может заменить собою делания ее, то есть написания новых вещей, о которых автору позволительнее высказываться после их появления перед судом читателя. 1947-1967 |
||||||