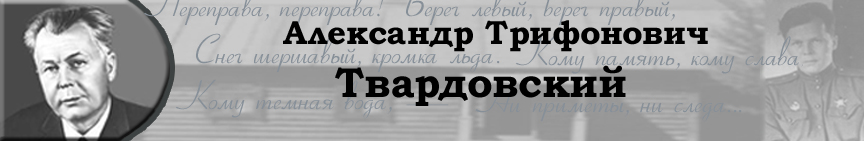 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
РАЗДУМЬЯ О ПРОЙДЕННОМ ПУТИ |
|||||||
|
...Все так, все так. Но где во мгле забвенной Вдруг канул ты, нам не подав вестей, Не тот, венчанный славою нетленной, А просто человек среди людей; Тот свойский парень, озорной и милый, Лихой и дельный, с сердцем не скупым, Кого еще до всякой славы было За что любить, — недаром был любим. Ни полуслова, ни рукопожатья, Ни глаз его с бедовым огоньком Под сдвинутым чуть набок козырьком... Ах, этот день с апрельской благодатью! Цветет ветла в кустах над речкой Гжатыо, Где он мальчонкой лазил босиком.
Да, любой герой для Твардовского прежде всего человек среди людей (свойский парень, озорной и милый). И свойский парень явно напоминает младшего брата Василия Теркина... Стихотворение Твардовского впервые показало вершину НТР и как некое новоселье, живую конкретность нового дома, «посудины» человеческой личности и в ее космическом масштабе, и в ее сердечной, личной неповторимости. И Твардовский соединяет в одном образе это новоселье с тем исходным домом, с тем отчим углом, той родной природой, из которой отправился в свою жизненную и космическую дорогу первый космонавт,— подобно тому, как и самого поэта, другого крестьянского сына, также некогда «позвала дорога в даль». Подобно тому, как позвала она и многое множество других крестьянских сынов. Выход человека в космос, победа техники, разума воспевались многими поэтами, но Твардовский извлекает из нее нравственный урок и связывает ее со своим главным пафосом утверждения человеческого родства, расширением этого пафоса до родства всей земли. Выход жизни на земле за пределы земли открывает новые возможности этого родства, его нравственного начала. Но тут же сталкивает эту возможность с действительною, суровой реальностью внутри этой «черты». И дальше возвращает нас к тому, что главным и внутри «черты» является,— реальности данного отдельного человека, человека из народа. В стихотворении «Полночь в мое городское окно» — другой поворот и взгляд на связь человека и космоса: воспоминание и совмещение сегодняшнего взгляда прошедшего жизнь человека на ночное звездное небо и его прошлого, того еще непонятного самому себе детского чувства таинственной причастности к небу, космосу; и удивительная метафора, создающая материальный, предметный образ этих «колющих» холодным огнем звездных скопищ. Центром космоса становится тот крестьянский мальчик, а его чувство передано своеобразной, «поведенческой» деталью впечатления от звездных скопищ. А в последней строфе еще один поворот темы:
В зрелости так не тревожат меня Космоса дальние светы. Как муравьиная злая возня Маленькой нашей планеты.
Хотя Земля «добрее» стала после выхода человека в космос, но продолжается и муравьиная злая возня в этой маленькой Земле. А в одном из самых последних стихотворений «В случае главной утопии» (1969) —еще один отклик Твардовского на темы, связанные с НТР и с местом современного человека на земле, «залогами» его будущего. Одно из многих стихотворений с темой угрозы атомной катастрофы, оборотной стороной НТР. Но Твардовский раскрывает ее также в своем «домашнем» подходе и самоуглублении. С одной стороны, это только «утопия», а с другой стороны, и реальная угроза. И главное, что страшно уже не за себя («Пожили, водочки попили,//Будет уже за глаза...») — это опасность разрушения самых простых, исходных человеческих ценностей — семьи, «деточек», и родной природы — «веточек», «капелек первой росы». Эти мотивы опять неожиданно перекликаются с поздним Заболоцким, его стихотворением «В этой роще березовой». Там, где у Заболоцкого приподнятая, напряженная философско-лирическая медитация, у Твардовского непринужденная, даже как бы приземленная дневниковая запись и взгляд людей, уже побывавших в космосе. Но у обоих глубокое и поэтически конкретное сопоставление главного в современной человеческой жизни, и жизни самой природы, и жизни всего космоса, бытия, в их и очень личной, и сверхличной связи. В стихотворениях «На новостройках в эти годы» (1965) и «А ты самих послушай хлеборобов» (1965)—другой слой и тип лирических откликов Твардовского на темы современности и вместе с тем общих проблем памяти человека, народа, пересмотра пути, а также и новой роли науки в жизни. Это тоже своеобразные лирические истории, обзоры судеб, но здесь — судеб русской деревни, ее деловой стороны жизни, хозяйства, быта. Стихотворение кончается своеобразным выводом-нравоучением:
Науку мы оспаривать не будем, Науке всякой — По заслугам честь, Но пусть она Почтенным сельским людям Не указует, С чем им кашу есть.
Тут проявилось то сочетание своеобразной деловитости и историзма художественного мышления Твардовского, которое позволяло превращать деловой публицистический отчет и комментарий о ходе социальных событий в лирическую поэзию. И главное опять — принцип трезвого пересмотра, самодеятельности мысли, сопоставляющей реальность с ее тенями, «натуру» и «меню». И бюрократическим фикциям ясно противопоставляется реальный жизненный опыт или разум реальных людей труда, их исторической преемственности. Претензии на сверхразумность безапелляционного рассудка раскрываются как мнимость формально-рассудочных, якобы научных «истин». А в предшествующем стихотворении «На новостройках» аналогичный лирический обзор двух «разворотов» исторической жизни народа, «земли родной» переходит и в неожиданный поворот, упрек самому себе, в напоминание о собственном чувстве ответственности за происходившее: ...Давно, допустим, это было, Но ты-то сам когда там был? Так, в разных аспектах, возникает в разных сочетаниях и основной мотив лирики Твардовского этих лет: увеличение чувства ответственности и за то, за что непосредственно не отвечаешь; и стремление оглянуться назад, чтобы двигаться дальше вперед. Во всех этих поворотах тем, мотивов общим является принцип аналитической памяти. Продолжаются и мотивы предыдущего периода. Прежде всего мотив «жестокой памяти» войны и чувства ответственности, даже вины живых перед погибшими. Отсюда два замечательных стихотворения 1966 года: «Я знаю — никакой моей вины» и «Лежат они глухие и немые». Они взаимодополняют друг друга, написаны как бы одним голосом и даже одним, хотя прерывистым, дыханием. Сравнение их со сходными по теме стихотворениями предыдущего периода показывает дальнейшее развитие этой темы и формы ее выражения Твардовским. Еще более обостренное чувство вины, и близости, и вместе с тем и некой разобщенности времени с теми, и чего-то неясного, невыразимого в этой перекличке живого с мертвыми. Каждое стихотворение представляет собой одну сложную фразу, одну краткую запись в дневнике, в которой все же совмещены, несмотря на краткость, разные пласты времени, разные стороны чувства ответственности памяти, и в которой многое недосказано, но домысливается, например, обрывающимся, незаконченным предложением и многоточием, передающим и напряженность раздумья, и силу чувств, и его неведомую глубину: «И все же, все же, все же...» По сообщению А. И. Кондратовича, в первоначальной верстке этого стихотворения был другой конец:
Речь не о том. Но все же... что же все же? Но только знаю, в дни войны На жизнь и смерть у всех права равны.
То ость в самый последний момент Твардовский убрал дополнительное поясняющее двустишие, несмотря на его прекрасную афористическую формулировку, в известной мере даже углубляющую основную мысль стихотворения. Углубляющую, но и как-то ограничивающую. И Твардовский справедливо убрал эту концовку, предыдущую строчку сделал последней и троекратным повторением усилил эмоциональность и многозначность заключительного «все же», которое получило богатое поле значений: и раздумья-оговорки, и вопроса, и восклицания, и утверждения. А заключительное многоточие заменило последние две строчки, раскрыло этим еще большую многозначность, открытость и авторского раздумия, и глубины памяти о подвиге и жертве народа. По сравнению со стихами предыдущего периода на близкие темы («Их памяти» и др.) память о погибших остается не менее суровой и даже усиливается мотивом рассудочно необоснованного, но обоснованного сердцем чувства некой вины и некоего вопроса, что, может быть, кто-то и мог «сберечь» многие жизни и во время войны. Жестокая память становится и чем-то менее жестокой, еще более просветленной чувством товарищества и обязательства. И поражает многослойность «затекста» нескольких как бы отрывочных строчек: и сложное особое сознание невольной вины всякого выжившего, когда другие, нехудшие, его товарищи погибли; и главное чувство новой и новой непреходящей связи со всеми теми живыми и мертвыми, которых уравнял всенародный подвиг, и особенно теми, кто погиб за дело жизни.
Перейти на страницу -> 1 2 4 5
|
||||||