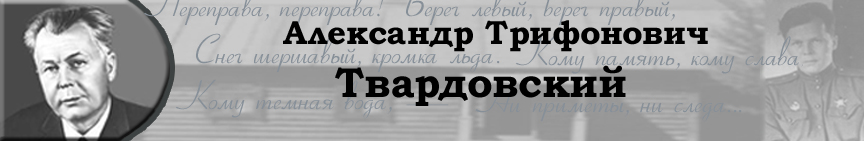 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
История рода Твардовского. О зимних вечерах в Загорье вспоминает и Иван Трифонович Твардовский. «Зимними вечерами,— пишет он,— братья возвращались из школы. Управившись с делами по хозяйству, семья начинала жить другой жизнью. Читали книги, решали задачи, заучивали стихотворения. Во всем этом отец наш принимал самое серьезное и живое участие. Он был по тем временам довольно-таки грамотным человеком для деревни. Умел не просто читать, писать, считать, но и начитанностью располагал немалой. Знал наизусть массу стихотворений и полюбившиеся произведения мог, перечитывая заново, аналитически разобрать. Также обладал удивительной способностью устно перемножать числа, например, трехзначные на трехзначные, чему я до сих пор дивлюсь». Он же пишет о том, что «одаренность Александра была понята отцом значительно раньше, чем стали замечать ее и тем более признавать на стороне. Даже самые ранние его стихотворные попытки не прошли мимо внимания отца». Это очень ценное свидетельство. Правда, надо признать, что отношение Трифона Гордеевича к увлечению сына литературой было сложным и противоречивым: то он гордился им («Ах, ты, сукин кот! Ай да ты, мой «писатель»! Да ты, брат, правда же молодец!), то сомневался в благополучии его будущей судьбы, если он пойдет по литературной тропе. В «Дневнике» 1927 года Твардовский записал: «Отец... Обычно издеваясь надо мною, развертывая перспективы голодания и пьянства в моей будущности, он одному нашему дыряво-суконному родственнику хвастался: — Это тысячное дело... Э! Он у меня будет денег стоить. Придет время, скажет только: «Сколько?..». И еще одна запись в Дневнике после того, как областная газета «Юный товарищ» 27 апреля 1927 года посвятила Твардовскому очередную Литературную страницу, поместила его фотографию и статью о нем Д. Осина: «Сейчас к нам приехал по кузнечным делам дьякон. Батя — ну-ка, Шура, покажи ту самую страницу. Дьякон прочитал страницу, статью обо мне, стихи мои, молча перевернул газету и стал читать. Молча положил газету на стол. Батя, батя...». И в первом и во втором случае Твардовский осуждает отца. Но надо понять и Трифона Гордеевича: он, конечно же, хотел, чтобы его сын стал знаменитым писателем, верил в его творческие силы, хотя неумолимые законы сельского хозяйства требовали полной отдачи энергии. И поэтому, как главе семьи, ему надо было выбирать — журавля в небе или синицу в руке. Он предпочитал «синицу» — надежную крестьянскую работу,— писательской «забаве», увлечению, которое, как он считал, должно пройти у сына.
В связи с этим приведем еще одну запись поэта об отце. «Он любил
этот мир,— пишет Твардовский,— будучи даже сам лишен в нем командных
высот, на худой конец он готов был бы всю свою жизнь жить мечтой об
удаче... Нельзя и не к чему желать, чтобы все в мире были равны в
имуществе и власти, а следовательно, и в уме,— это все равно, что
желать, чтобы зимой было лето и наоборот. А раз это так, то нужно
быть богатым и знатным. Любая форма знатности, слава, за которыми
само собой стояли деньги, была как нельзя более по душе. Он обожал
Шаляпина, хоть никогда его не слышал, борца Поддубного, Наполеона,
из царей Петра, Пушкина, даже Горького, хотя считал, что, выйдя из
босяков, незачем описывать эту среду, нужно писать приличных людей —
купцов. И добрым богатому быть удобнее». Этот же автор в другой своей книге о Твардовском — «Ровесник любому поколению» — пишет: «Попытка проникнуть в этот характер — многослойный, непростой, с детства знакомый, во многом отталкивающий и в то же время властно притягивавший Твардовского, заставлявший его много раз размышлять и даже, как мы видим, думать в романе именно о нем, а не о ком-либо другом. Потому что Трифон Гордеевич мог ведь предпринять и совсем немыслимое дело: когда стало совсем голодно, добрался с Северного Урала до знакомого по давним годам Донбасса, работал там полгода и вернулся обратно с хлебом, какой мог только дотащить на себе. А потом через какое-то время раздобыл где-то лошадь и со всей своей семьей двинулся с Урала куда глаза глядят и проехал по неизвестным дорогам больше тысячи километров, подрабатывая чем мог, пока не осел как кузнец в одной из вятских деревенек. «Мать рассказывала,— говорил Александр Трифонович,— что отец научился так экономить, что умудрился расщеплять одну спичку на четыре части. Я, зная его сильные руки кузнеца, скрюченные пальцы из одних мозолей, никогда бы в это не поверил, но мать тоже никогда не говорила неправды». Эти натруженные руки отца Твардовский увековечит в поэме «По праву памяти». Обсуждая в произведении вопрос об ответственности сына за отца и отца за сына:
Характер отца занимал творческое воображение Твардовского в течение
многих лет. Вот только некоторые общие контуры этой огромной темы —
от истоков до поэтической зрелости и подлинного художественного
мастерства
И в самых трудных условиях он оставался самим собой, каким всегда был в жизни, каким знали его односельчане — прямым, неподкупным, справедливым и гордым («Держался гордо, отчужденно от тех, чью долю разделял»), продолжая верить, что «все на место встанет», и ошибка будет исправлена; и советская власть, в силу которой он не переставал верить, защитит его.
|
||||||