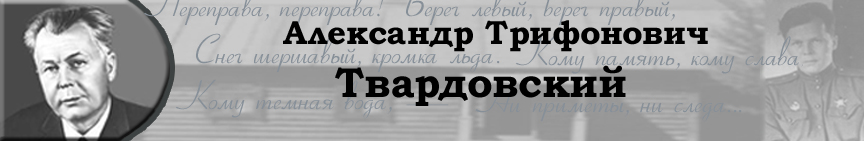 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
О. ВЕРЕЙСКИЙ. "К ДВУМ ПОРТРЕТАМ" |
|||||||
|
Никогда не забуду, как он стоял там на пустом месте, угадывая по одному ему заметным следам, где был дом, сарай, где росло заветное дерево... Мы расступились, отошли, оставив его одного; я и сейчас вижу, как он стоит там на взгорке и ветер играет его волосами. За ним было только светлое полуденное небо и высокая гряда облаков. ...Что он думал, не гадаю, Что он нес в душе своей... Мы долго стояли поодаль, пока он не взглянул в нашу сторону, и тогда мы подошли. Этот пригорок, заросший ольхой, окруженный кольцеобразной канавой — «копань», как называл ее Александр Трифонович,— и был единственным следом того, что здесь было когда-то жилье. Много лет назад кузнец Трифон Гордеевич решил вырыть па своей усадьбе небольшой прудик, чтобы скапливалась там дождевая вода. Старшие сыновья — Саша и Костя — помогали отцу. Когда рыли канаву, землю сбрасывали в середину. Сооружение это так и не было завершено, но теперь только по его следам удалось найти то место, где был когда-то теплый, обжитой дом, пока жестокая судьба не согнала отсюда семью, строившую, обживавшую и согревавшую его. Обратно мы ехали в сумерках. Люди, сидевшие в двух запыленных машинах, не проронили за всю дорогу ни единого слова. Александр Трифонович сидел рядом с шофером, и у него было такое лицо, что, обращаясь к нему с вопросом, мы говорили шепотом. Мы заночевали в Починке, хотя собирались вернуться в Смоленск,— дорогого гостя не отпускали земляки. Они раскинули для него стол и заявили, что никуда не отпустят до утра. За столом его попросили почитать стихи. Я много раз слушал Твардовского. Но никогда — ни до, ни после этого — даже тогда, в лесу под Малоярославцем, он не читал так, как в этот вечер. Он читал свои юношеские стихи, потом стихи военных лет, потом главы из «Теркина» и несколько глав из «Дома у дороги». Эту поэму Александр Трифонович называл падчерицей, потому что она, почти совпав по времени с «Василием Теркиным», гораздо реже печатается. Я очень люблю эту поэму. Когда он читал главу «Родился мальчик в дни войны», хозяйка дома, давно уже сидевшая с влажными глазами, теперь просто рыдала, не вытирая слез, сбегавших по ее милому румяному лицу. Плакал и ее муж, бывший в войну храбрым боевым генералом. Что до меня, то даже сейчас, много-много лет спустя, когда я вспоминаю этот вечер, стоит, не проходит комок в горле. Мы уезжали из Смоленска ранним утром, в спешке забыв взять заботливо приготовленную руками матери снедь в дорогу. Магазины были еще закрыты, возвращаться не хотелось — пути не будет,— и мы заехали по дороге на вокзал. В зал ожидания, где был буфет, нас не пускали — у нас не было билетов на дальние поезда. Женщина, преграждавшая нам путь, не глядя на нас, повторяла механическим голосом одно только слово: «Нельзя». Но вот она подняла вдруг глаза, всплеснула руками, потом прижала их к груди и воскликнула: «Александр Трифонович! Нет, сын ни за что не поверит мне, что я видела вас живого! Он вас сейчас в школе учит!» И когда мы, уже нагруженные покупками, прощались с ней, она снова заверяла нас, что сын ни за что, ни в жизнь не поверит ей какая ей сегодня выпала великая удача.
* * * Когда Александр Трифонович задумал поселиться на даче под Москвой, чтобы можно было работать в тишине, выбор его остановился на том поселке, где я уже обитал несколько лет. Александр Трифонович подробно расспрашивал меня об этом месте, об условиях нашего быта, о людях, живущих здесь. Мне очень хотелось, чтобы Твардовские стали нашими соседями, и я не скупился на похвалы, но объективности ради сказал, что вот только далековато от города, сообщение плохое, иногда из-за этого пропускаешь что-нибудь интересное или важное. Твардовский глянул на меня с удивлением. «В наши годы страшно одно — пропустить хорошую мысль»,— сказал он. Поселившись здесь, он привязался к нашим местам. И зимой, и летом, как бы поздно ни задерживали его дела в городе, он старался хоть к ночи вернуться сюда, чтобы проснуться и начать новый день в тишине, среди берез. В одной из лучших своих статей, открывающих собрание сочинений И.А. Бунина, Твардовский писал: «Бунин предельно конкретен и точен в деталях и подробностях описаний. Он никогда не скажет, например, подобно некоторым современным писателям, что кто-то присел или прилег отдохнуть под деревом,— он непременно назовет это дерево, как и птицу, чей голос или шум полета послышался в рассказе. Он знает все травы, цветы полевые и садовые...» Все это в полной мере можно отнести к самому Твардовскому. Он отлично знал природу и потому так любил ее:
Трава была травы добрей — Горошек, клевер дикий, Густой метелкою пырей И листья земляники.
Для него природа была родным домом. Он относился к ней уважительно, по-хозяйски. Он знал, где можно, где нельзя ходить по траве, потому что это не просто травка, а покос, знал, когда и как можно ранить дерево, чтобы добыть сок, не причинив ему вреда; знал, когда и как пересаживать деревья, чтобы они прижились, как обрезать их, чтобы стала пышной крона. Он никогда не выбирал непременно хорошей погоды для дальнего похода в лес — шел в дождь, не замечая его. Он шел по лесу как хозяин, угадывая по своим тайным приметам грибные места, ругался, увидев следы варварской порубки. Брошенные в лесу обертки, куски газет, всякий пикниковый мусор возмущал его, и он никогда не шел дальше, пока не вытащит спички, не разожжет костерок и не спалит весь собранный им мусор. И не уйдет, пока не убедится, что костерок догорел. Он всегда пользовался спичками и, хоть и был заядлым курильщиком, никогда не хотел прибегать к помощи зажигалки. Даже тогда, когда болезнь ограничила подвижность рук, он ухитрялся одной левой зажигать спичку о прижатый к груди коробок. Друзья! подарили ему тогда удобную настольную зажигалку, но он продолжал упрямо чиркать спичками. Он вообще относился с недоверием ко всяким бытовым новшествам. Долго не хотел пользоваться электробритвой, косо поглядывал на женщин в брюках, иронически относился к изменчивости моды в одежде, как не признавал всякую моду в быту, в искусстве и литературе. Но тут его никак нельзя было обвинить ни в косности, ни в консерватизме, скорее наоборот — он видел дальше и глубже многих. Он знал народные приметы и верил им. И если он говорил, что первый снег непременно растает, потому что лег на мягкую, не схваченную морозом землю, что весна нынче будет ранняя или лето дождливое, что гроза пройдет стороной,— мы знали, что так и будет. Мы шутили, что он угадывал перемены в природе раньше, чем они происходили. И он радовался им когда-то. Но вот у меня есть фотография — на ней Александр Трифонович, подняв трость (одну из тех, что он сам вырезал и любовно остругивал), показывает на порозовевшие по-весеннему макушки голых берез. И я помню, что он говорил при этом. А говорил он, что вот идет весна, а с годами перемены в природе воспринимаются не радостно, как прежде, а тревожно и болезненно. Это была его последняя весна, то есть почти последняя. Была еще следующая, которую он видел уже только из окна своей комнаты. А еще в том году, к которому относится эта фотография, он, как всегда, косил траву, пересаживал деревья, копал землю, орудовал топором и пилой. Делал он все это так умело, так ладно и как будто с легкостью, что радостно и весело было глядеть на него. Как и в военные годы, он любил работать ранним утром. Когда он заходил за мной поутру, чтобы, еще заспанного, вести на речку (пристыдив, что я поздно сплю и не вижу такого прекрасного утра), всегда оказывалось, что он уже успел что-то написать и прочесть. Когда он успевал читать все, что прочитал на своем веку, непостижимо. Ведь кроме того обширного материала, который он считал своим долгом читать как редактор журнала, он, казалось, не пропускал ни одной новой, только что вышедшей (стоящей) книги, постоянно возвращаясь к когда-то прочитанному, открывая для себя новые имена среди пропущенных. Я не хочу писать панегирик вместо простого рассказа о том, чему был свидетель. И не мне говорить о начитанности Твардовского — это общеизвестно. Мы только постоянно поражались его памяти на слово. Она была фантастической. Он мог процитировать целый абзац из прочитанной накануне книги. Иногда он находился под таким сильным впечатлением от нее, что в течение нескольких дней не мог ни о чем другом говорить. И когда он говорил о книге, которую ты на своем веку читал и перечитывал не раз, он всегда открывал в ней целые залежи того, что ускользало от тебя раньше и, высвеченное его видением, становилось открытием. Однажды, когда речь шла о значении литературы в истории человечества, он привел полушутя как неопровержимый довод в пользу могущества печатного слова то обстоятельство, что во все времена власть имущие страшились не столько самих негативных явлений в жизни общества, сколько их отображения в литературе. Сейчас я казнюсь, что вместо того, чтобы только слушать, раскрыв рот, Твардовского, я не записывал по свежей памяти всего, что он говорил. И еще больше казнюсь, что рисовал его с натуры так обидно непростительно мало. Конечно, я наблюдал его так часто, что в дополнение к своим наброскам я надеюсь еще вернуться к его изображению. А наблюдал я его по-всякому — и в быту, и на отдыхе, и даже за работой, хотя то, что называется «кухней» творчества, было скрыто от сторонних глаз. И только однажды я оказался невольным, случайным свидетелем того, как он сочинял стихи. Мы ушли далеко в лес, запасшись корзинами для грибов,— Мария Илларионовна, Александр Трифонович и я. Но, конечно, Мария Илларионовна, жена Александра Трифоновича, самый заядлый грибник из всех, кого мне довелось видеть за этим занятием, сразу обогнала нас и скрылась в лесу. Мы разбрелись. Продираясь сквозь заросли, я время от времени видел Александра Трифоновича, который, к моему удивлению, не смотрел под ноги, а прямо перед собой и что-то бормотал невнятно, нараспев. Я отошел, чтобы не мешать, но мой спутник меня уже не замечал. Он стал говорить все громче, все отчетливее и даже отойдя так далеко, что я уже не видел его за деревьями, я услышал: «И чью-то душу отпустила боль». И снова, и снова одну и ту же эту фразу. И потом: «И чье-то сердце отпустила боль». И так попеременно. Я отошел еще дальше, а строка эта про-: должала звучать в моих ушах. Через несколько дней я услышал все стихотворение. Это были те стихи, что публикуются последними (пока последними) в изданиях произведений Александра Трифоновича Твардовского.
К обидам горьким собственной персоны Не призывать участья добрых душ. Жить, как живешь, своей страдой бессонной, Взялся за гуж — не говори: не дюж. С тропы своей ни в чем не соступая, Не отступая — быть самим собой. Так со своей управиться судьбой, Чтоб в ней себя нашла судьба любая И чью-то душу отпустила боль.
В этих словах смысл и цель всей огромной нелегкой жизни, они могли бы стать эпиграфом к книге о великом поэте нашего времени, эпитафией на его памятнике. 1972
|
||||||