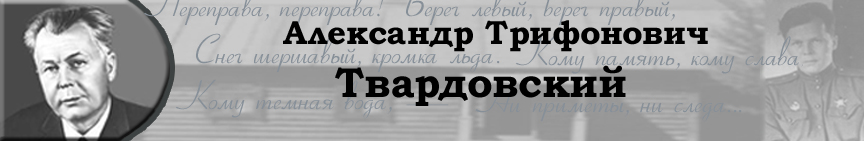 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
О. ВЕРЕЙСКИЙ. "К ДВУМ ПОРТРЕТАМ" |
|||||||
|
Читая воспоминания друзей и современников об известных людях, мы часто испытываем чувство неудовлетворенности. Иногда это рассказ о себе, купание в лучах чужой славы. Часто в повествование щедро вводится живая речь того, о ком пишется, удивительно схожая с речью, характером, интонациями автора воспоминаний. Получается это, наверное, непроизвольно, но от этого не легче. Видимо, впечатления о человеке с течением времени как-то трансформируются, более или менее сближаясь с привычным образом мысли пишущего. Легко ли это преодолеть? Конечно, всем нам доводилось читать прекрасные воспоминания, достойные тех, кого вспоминали. Но много ли их? К тому же любое подлинное искусство выражает душевный мир его создателя. А Александр Трифонович Твардовский так выражен, так раскрыт в своих творениях, что нужно ли, можно ли что-нибудь добавить к тому, что уже обрело бессмертие? Нет, лучше не браться. Но вот я заметил, что стал чаще, чем прежде, получать письма от читателей книг, какие мне довелось иллюстрировать. Письма от незнакомых людей, с соседних улиц и из далеких городов. И хотя они обращены ко мне, речь в них идет совсем не обо мне, а только об Александре Трифоновиче Твардовском. И вот одно из них, которое начиналось так: «Извините за беспокойство, прошло больше трех месяцев со дня смерти А. Т. Твардовского, а он постоянно вспоминается, о нем постоянно думается». В письме было множество вопросов, и заканчивалось оно так: «Может быть, у Вас нет времени или желания ответить на это письмо, а может быть, наоборот, Вам захочется поделиться воспоминаниями о том, кого Вам выпало счастье знать, с людьми, которые испытывают чувство любви и глубочайшей благодарности к Твардовскому и хранят о нем светлую память навсегда». В силу моих природных и профессиональных особенностей мне свойственно доверяться главным образом зрительным впечатлениям. И хотя, к сожалению, я рисовал Твардовского обидно, непростительно мало, многое из виденного, наблюденного на протяжении тех тридцати лет, счастливо выпавших на мою долю, когда мне доводилось много и близко соприкасаться с ним, я вижу с предельной ясностью. Взяв за отправную точку два сделанных мною в разное время портрета Александра Твардовского, я расскажу, как сумею, о нем, в надежде добавить хотя бы несколько штрихов к этим портретам. Первый портрет был сделан весной 1943 года. Впервые я увидел его таким, каким он изображен на этом рисунке, только на год раньше. В облике его за этот срок ничего не изменилось. Разве что петлицы на воротнике гимнастерки с тремя шпалами старшего батальонного комиссара сменились погонами подполковника. Он прибыл в газету Западного фронта «Красноармейская правда» уже известным писателем. И хотя многие из нас, сотрудников фронтовой газеты, не читали еще ни «Отцов и прадедов приметы...», ни «Песни о полковом знамени», а некоторые даже и «Страны Муравии», слава тридцатидвухлетнего поэта докатилась до нас задолго до знакомства с ним. Мы ждали его с нетерпением. Многие из служивших в редакции знали Твардовского по финской войне, но и те, кто, как оказалось потом, не видели его ни разу, рассказывали массу удивительных и маловероятных подробностей его биографии, характера, быта: такова — увы! — оборотная сторона известности. Мы стояли тогда в густом лесу под Малоярославцем. Наши палатки были раскинуты под прикрытием деревьев, а неподалеку на железнодорожной ветке стоял замаскированный редакционный состав. И вот тут как-то в весенний день вылез из попутной машины молодой Твардовский. Едва он удалился, чтобы доложить о прибытии, все принялись обмениваться первыми впечатлениями. Кто-то очень точно сказал о его внешности: «Помесь красной девицы с добрым молодцем». Он был удивительно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с тонкой талией и узкими бедрами. Держался он прямо, ходил расправив плечи, мягко и пружинно ступая, отводя на ходу локти, как что часто делают борцы. Военная форма очень шла к нему. Мягкие русые волосы, зачесанные назад, распадались в стороны, обрамляя высокий лоб. Очень светлые глаза его глядели внимательно и строго. Подвижные брови иногда удивленно приподымались, иногда хмурились, сходясь к переносью и придавая выражению лица суровость. Но в очертаниях губ и округлых линиях щек была какая-то женственная мягкость. Несмотря на удивительную молодость, он выглядел и держался так, что никому и в голову не приходило на первых порах называть его Сашей, как это было принято у нас и как некоторые уже звали его за глаза задолго до первой встречи. Каждый, кто хотя бы раз в жизни встречался с Александром Трифоновичем, знал за ним эту удивительную особенность — воздвигать невидимую стену между собой и собеседником, не допускавшую фамильярности, дурного панибратства. Он не воздвигал сознательно эту невидимую черту, этот барьер, особенно ощутимый тогда, когда собеседник был, на его взгляд, плохим, ничтожным человеком. Это было какое-то особенное, одному ему присущее, органическое свойство, которому я не могу придумать названия. Это не было ни высокомерием, ни в малой степени ощущением своей отмеченности и значительности. Тем более что проявлялось это свойство часто в отношениях с людьми высокого положения или обладающими общепризнанной известностью. Он любил поговорку: «Каждый задается на столько, на сколько ему не хватает разума». А уж разума ему было отпущено с лихвой. Когда мы узнали его поближе, мы поняли, что эта кажущаяся суровость, строгость — некий щит, под прикрытием которого он неторопливо изучает тех, с кем его свела судьба. Александр Трифонович нелегко сходился с людьми. Но, испытав к кому-нибудь доверие, он прочно закреплял свое доброе, хотя и требовательное, отношение к нему. И тогда он позволял себе раскрыть те черты, какие скрывались до поры за так называемым «непроницаемым» щитом. Я не берусь перечислять эти черты его сложного характера, хочу только отметить и застенчивость, и способность по-детски удивляться, радоваться или огорчаться. Не всем дано сохранить до седых волос детскую душу. Она была до самой смерти у Александра Трифоновича Твардовского. Те немногие, кого он называл своим другом, знали устойчивость, прочность его дружбы. Однако это не значит, что к друзьям он бывал снисходителен. Нет, его бескомпромиссность, нетерпимость к человеческим слабостям, ко всякой фальши, несправедливости, лицемерию не давали спуску никому. Он умел жестоко высмеять, как выстегать, ранить словом, не делая при этом разницы между близким другом и человеком сторонним. В ту пору в литературном составе редакции работали писатели Вадим Кожевников, Евгений Воробьев, Морис Слободской, Цезарь Солодарь. Все они, наверное, помнят, как мы собрались однажды в полутемном от маскировки редакционном салон-вагоне и Твардовский стал читать нам первые, еще нигде не публиковавшиеся главы «Василия Теркина», которые он привез с собой. Он сидел у стола, и заметно было, как он волнуется. Мы же еще не знали, что нам предстоит услышать. Многие ждали веселых приключений лихого солдата, вроде того «Васи Теркина», что писался группой поэтов в уголке юмора газеты «На страже Родины» во время финской кампании. Но вот он начал читать: На войне, в пыли походной, В летний зной и в холода, Лучше нет простой, природной — Из колодца, из пруда, Из трубы водопроводной, Из копытного следа, Из реки, какой угодно. Из ручья, из-подо льда, — Лучше нет воды холодной, Лишь вода была б — вода. Сейчас эти строки звучат для нас как вступление к знакомой, любимой поэме. Тогда услышали мы их впервые. И читал их Твардовский. Все ждали стихов Твардовского с интересом. Вагон был заполнен людьми, которые только что обменивались шутками, передавали друг другу сигареты, прикуривали, одобрительно кивали головами, слушая первые строки. Только что. Сейчас, несмотря на то, что народу в вагоне сильно прибавилось и у раскрытых дверей кучкой стояли солдаты, тишина была такая, какая редко, наверное, случалась в военную пору. Как все просто, как похоже на твои собственные мысли, только ты не знал, не умел их так ясно выразить. Много лет спустя я прочел в одной из статей Твардовского: «...кто из нас бессознательно не ликовал, упиваясь какой-нибудь заветной страницей «Войны и мира» или «Анны Карениной»: «Ах, как это мы с Толстым хорошо и верно видим, понимаем!» Как хорошо, что в наше время существует запись человеческого голоса. И многие знают по пластинкам (как жаль, что их выпускают так мало), как читал свои стихи Александр Твардовский. Но, конечно, читал он по-разному. Ведь настроение читающего, аудитория, ее ответная реакция — многое влияет на характер исполнения. И я благодарен судьбе за то, что она даровала мне радость слушать живого Твардовского. И особенно за тот первый раз. Читал он великолепно, просто, не прибегая к актерским приемам, не повышая голоса, не помогая себе жестикуляцией. Мне довелось присутствовать однажды в редакционном кабинете толстого журнала, когда один известный поэт принес свои стихи для опубликования. Как он их читал! Он то шептал, то кричал во весь голос, он отбивал такт ногами, почти пританцовывал, руки его ни на миг не оставались в покое — они то рассекали воздух, то плавно плыли и нем... И видавший виды редактор сказал: «Нет, так не пойдет. Вы прекрасно прочитали стихи, почти как Качалов. Браво! Но поглядим, каковы они без этого актерского блеска. Оставьте, я прочту их глазами». Не было и тени актерского блеска в том, как читал Твардовский. Да и нужно ли это, когда сами слова хватают за душу? Мы слушали ли слова — единственные, точные, незаменимые — и радовались, и удивлялись им. И сочетание этого легкого смоленского говора и слов не псевдонародных, а подлинно народных, которые не просто слышал, впитав с детских лет, а которыми привычно пользовался, едва научившись говорить, босоногий мальчишка из смоленской деревни, со словами всегда русскими, не модными, не общепринятыми, за которыми стоят знания обширные, глубокие, культура подлинная,— вот это сочетание и было речью Твардовского. Литературоведы, критики не раз, наверное, будут возвращаться к языку Твардовского — это тема неисчерпаемая. Они это сделают лучше меня, им и карты в руки. Я же только радовался, слушая эту речь. Я имею в виду не только стихи. А то, как он разговаривал, как строил фразы, какие слова находил. Итак, мы слушали первые главы «Василия Теркина». С этого дня на протяжении всех лет войны они печатались по мере написания в нашей газете «Красноармейская правда». Последняя, заключительная глава «От автора» была написана или, во всяком случае, начата в памятную ночь с 9 на 10 мая 1945 года. Мы были свидетелями того, как одна за другой рождались главы «Теркина». Но это не следует понимать буквально. Работая, Александр Трифонович до поры ни с кем не делился, никогда не писал на людях. Сидел подолгу один в землянке или в лесу, никому не показываясь. Помню его одинокую фигуру в накинутой на плечи длинной шинели, бродящую в лесу, среди покалеченных войной стволов деревьев. Он любил писать ранним утром и всегда старался работать допоздна, часть работы, ту, что уже завязалась, отложив на завтра, чтобы, чуть забрезжит свет, снова сесть к столу (опрокинутому ящику, пню — где придется), на котором уже лежит пусть малое, но все же начало для разгона на сегодня.
|
||||||