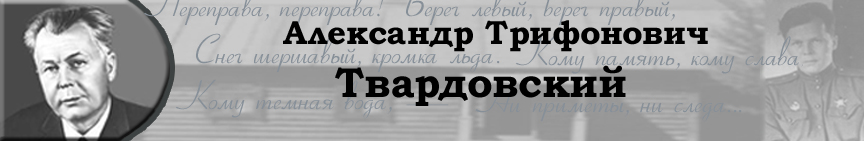 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
О. ВЕРЕЙСКИЙ. "К ДВУМ ПОРТРЕТАМ" |
|||||||
|
Когда глава сдавалась в печать, он сразу становился общительнее, веселее, старался размяться. Он очень любил проявлять свою немалую физическую силу, то есть не показывать ее, а просто выпустить ее на волю. То он колол дрова для печурки, то рыл новую землянку, никогда не упускал случая подтолкнуть, вытащить завязшую машину, боролся с немногими охотниками померяться с ним силами, с готовностью принимал участие в застольных сборищах, на которых с охотой и старанием пел старинные народные песни. Однако эти короткие промежутки видимой передышки после только что сданной новой главы «Василия Теркина» вовсе не означали полной свободы, отключения мысли, как это могло порой показаться со стороны. Его слух и зрение были в постоянном напряжении — они ловили, копили материал для продолжения поэмы. Самый большой, бесценный материал он черпал, конечно, в частом пребывании на передовой, в воюющих частях, хотя редакционные задания, служившие поводом для таких командировок, и отвлекали его от непосредственной работы над «Теркиным». Не скажу, чтобы рисунки, которые я делал для глав «Василия Теркина» на страницах «Красноармейской правды», украшали газетную полосу. Более серьезно надо было думать об иллюстрациях, когда речь зашла об издании первых глав поэмы отдельной книгой, а эта счастливая возможность возникла уже в 1943 году. Мне хотелось открыть книгу фронтисписом с портретом Василия Теркина. И это оказалось самым трудным. Каков он, Теркин, собой? Многие солдаты, портреты которых я набрасывал с натуры, казались мне чем-то похожими на Теркина — кто улыбкой, кто прищуром веселых глаз, кто всем милым, усеянным веснушками лицом. Но ни один из них не был Теркиным. Я оказался в роли Агафьи Тихоновны из гоголевской «Женитьбы»: «...Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...» Разумеется, каждый раз я делился результатами своих поисков с Александром Трифоновичем. И каждый раз слышал в ответ: «Нет, это не он». Да я и сам знал — не он. Но вот однажды в нашей редакции появился приехавший из армейской газеты молодой поэт. Приехал он к Твардовскому почитать ему свои стихи. Василий Глотов всем нам сразу понравился. У него была добрая улыбка, веселый нрав. И еще мы знали, что не ведавшему снисхождения Твардовскому понравились некоторые, еще незрелые стихи молодого поэта. Прошло несколько дней, и вдруг я с пронзившим меня радостным чувством узнал Василия Теркина в Василии Глотове. Я бросился к Александру Трифоновичу со своим открытием. Он сначала удивленно вскинул брови, потом попросил меня для начала нарисовать Глотова и показать ему. Я не был обескуражен его реакцией. Наоборот, она меня обрадовала. Александр Трифонович был далек от проблем и интересов изобразительного искусства, но он понимал, что сама жизнь и ее художественное изображение не одно и то же. Идея «попробоваться» на образ Теркина показалась Глотову забавной. Когда я рисовал его, он хитро прищуривался, расплывался в улыбке, что делало его еще больше похожим на Теркина, каким я его себе представлял. Я нарисовал его анфас, в профиль в три четверти, с опущенной головой. Показал рисунки Твардовскому. Александр Трифонович сказал: «Да». И это было все. С тех пор он никогда не допускал ни малейшей попытки изобразить Теркина другим. В дальнейших публикациях, в зависимости от характера издания и способа печати, я переделывал этот портрет, меняя только технику исполнения, но стараясь не нарушить сходства. Кстати, о сходстве. Естественно, мои наброски с Глотова не были протокольным, точным повторением его черт, да и вряд ли буквальное копирование чьего-либо лица может привести к созданию облика литературного героя. Все мои прежние поиски теркинских примет в других лицах, конечно, не пропали даром. Я аккумулировал их, рисуя того Теркина, основой которого стал Глотов. Но все же Глотов надолго стал Теркиным — товарищи по армейской газете не называли его иначе. Сейчас писатель Василий Глотов живет и работает во Львове, недавно ему исполнилось шестьдесят лет. То, что я был свидетелем событий, которые либо вошли в главы «Теркина», либо стали фоном для них или толчком для их возникновения, то, что я видел и мог с натуры рисовать места, где происходили описанные в них события, помогло мне в работе над иллюстрациями к «Василию Теркину» и «Дому у дороги». Помогло не буквально пересказать содержание, а идти как бы параллельно со стихами, со своим изобразительным рассказом. Вместе с тем я мог сохранить в рисунках конкретность и времени, и места действия. И разрушенный, сожженный Смоленск, и мощенные бревнами болота Белоруссии, и равнины Восточной Пруссии с дальними готическими шпилями, и тот прусский городок, где писалась глава «В бане», даже тот стул из графского дома—все это виденное, хоженое и рисованное. Кстати о бане. Он любил всласть попариться в баньке, гордился знанием тонкостей банного дела и особо — своим умением тереть спину. Однажды в прусской деревне командир части решил угостить нас отличной, оборудованной на русский манер баней. Нас было трое — Александр Трифонович, художник Горяев и я. Разумеется, мы с восторгом приняли приглашение. Едва раздевшись, Твардовский тотчас же решил продемонстрировать нам свое умение, сначала на спине Горяева. Едва над спиной Виталия стала гулять мочалка и в баньке раздались его первые сладостные стоны, подоспел присланный начальством пожилой сержант-банщик. Увидев в предбаннике гимнастерку с погонами подполковника и две другие — с капитанскими, он, отпихнув Твардовского, ласково склонился над разомлевшим Горяевым: «Разрешите мне, товарищ подполковник»,— и стал со знанием дела обрабатывать его лопатки, «подполковник» беззвучно похохатывал, с торжеством поглядывая на Твардовского. Надо было видеть лицо сержанта, когда мы стали одеваться... Когда я стараюсь представить себе Твардовского тех военных лет, он почему-то видится мне в лесу, среди березовых стволов или еловых зарослей. Хотя стояли мы в те годы не только в лесу, а жили и в бункерах, на вершине Вороньей горы у въезда в Смоленск, и в бараках на краю поля, и в прибалтийских городках, и в совсем лишенных леса немецких хуторах. Может быть, это представление возникает оттого, что я впервые увидел его в лесу, или оттого, что он всегда с такой нежностью относился к живой природе, так знал и любил лес, столько прекрасных слов сказал о нем в своих стихах. Какой болью наполнены строки: Лес — ни пулей, ни осколком Не пораненный ничуть, Не порубленный без толку, Без порядку, как-нибудь. Не корчеванный фугасом, Не поваленный огнем... Блиндажами не изрытый, Не обкуренный зимой. Ни своими не обжитый, Ни чужими — под землей... И даже «на околице войны, в глубине Германии» он вспоминает не раз родную березу. Помните эти строки в главе «По дороге на Берлин»: Далеко, должно быть, где-то Едет нынче бабка эта, Правит, щурится от слез, И с боков дороги узкой, На земле еще не русской, — Белый цвет родных берез. Эх, как радостно и больно Видеть их в краю ином!.. Однажды я увидел его необычайно возбужденным. Обычно невозмутимый, Александр Трифонович стоял, широко расставив ноги, против дома, где еще недавно размещался немецкий штаб, и о чем-то горячо говорил, размахивая руками. Я не сразу понял причину его волнения. Оказалось вот что: мостки через канавы, заборчики палисадников, лесенка, ведущая к дому,— все было обнесено аккуратными оградками из белоснежных стволов молодых берез. Позже, идя дорогами наступления, мы на каждом шагу видели эти затейливые заборчики, скамеечки, беседки, даже кресты на могилах, построенные с немецкой аккуратностью из срубленных березок. Но тут мы увидели это впервые. И еще кто-то заметил с одобрением: вот, мол, хозяйственный немец придумал, как украсил свое жилье. Твардовский говорил, что русский человек никогда не позволил бы себе зря губить молодые деревья. И какая уж тут красота, если срубленная береза, не очищенная от коры, сразу начнет гнить. Не могли немцы не знать этого. А раз знают, то лишний раз подтверждают временность своего пребывания на нашей земле. Позже он написал об этом очерк, который так и называется «О русской березе». И там есть такие строчки: «Мертвенность — вот сущее впечатление всего, что немец нагородил из березы. Чудное народное дерево безвкусно и кощунственно употреблено чужеземцем на украшение захваченной им земли». Много-много лет спустя кто-то, пожелав сделать мне приятное, соорудил подобную скамеечку в саду около моего дома. Я с ужасом разобрал ее и унес колышки. Я торопился. Александр Трифонович собирался зайти ко мне в этот день. Можно ли было упрекнуть его в пацифизме, во всепрощении? Все его творчество военных лет красноречивей всяких слов говорит о его ненависти к фашизму. Но вот он рассматривал как-то фотографию, изображавшую группу немецких солдат, и говорил, что вот для нас все эти лица объединены одним понятием «противник». А сколько за этим словом разных людей, характеров, судеб. А за каждым из них — семья, ожидающие, страдающие люди. В ту пору никому из нас не приходила в голову такая мысль, а приди она, мы не решились бы высказать ее вслух. А он мог. Кажется, не было таких обстоятельств, такой обстановки, когда бы Твардовский не говорил то, что он думает. Весна 1945 года застала нас в небольшом городке неподалеку от Кенигсберга. Наш Третий Белорусский фронт, выйдя к Балтийскому морю, закончил военные действия раньше других, воевавших тогда в сердце Европы. По дорогам Восточной Пруссии потекли людские толпы. Навстречу войскам шли, ехали на чем придется, с трудом передвигались люди, освобожденные из плена, неволи передовыми частями нашей армии. Здесь шли вперемежку люди всех национальностей и возрастов. Одежда их оборвалась, истлела, превратилась в рубище. Но что-то еще сохранилось, не совсем утратило свой изначальный вид. Береты, островерхие пилотки, тюрбаны из тряпья, деревянные сабо, пледы и одеяла, накинутые на плечи, самодельные шляпы и шляпы, видавшие лучшие дни. Все это шло пешком, катилось на двуколках, тарантасах, велосипедах, спотыкалось на высоких каблуках, растекалось по дорогам, располагалось табором вдоль обочин. Александр Трифонович пристально наблюдал за этим живым потоком. Он рад был случаю угостить сигаретой, завязать разговор, обменяться шуткой. Люди были так возбуждены свободой, весной, возможностыо общения, им хотелось говорить с кем угодно — слишком долго они молчали. Помню, как встретилась нам группа молодых итальянцев. И нам, и им хотелось высказать расположение друг другу, но увы, весь запас итало-русских слов был исчерпан в одну минуту. Александр Трифонович попросил Льва Хахалина, ответственного секретаря нашей редакции, человека очень музыкального, спровоцировать итальянцев на пение. И тот завел: «О, sole mio!..» Итальянцы мгновенно подхватили. Мы подпевали им, как умели. Потом мы, хлопая друг друга по плечам, пели во весь голос «Катюшу» и долго не могли расстаться. Какие это были дни! На восток, сквозь дым и копоть, Из одной тюрьмы глухой По домам идет Европа, Пух перин над пен пургой. День 9 мая был солнечный и жаркий. Этот день каждый, наверное, запомнил по-своему и навсегда. И вместе с тем волнение, охватившее нас, не давало возможности запомнить все ясно и последовательно. Все события этого необыкновенного дня сливаются в непрерывное ликование. «Это был тот самый праздник, которого мы столько лет ждали в муках и горе, в безмерно огромном труде»,— писал Твардовский, вспоминая День Победы. Я помню, как на залитой солнцем улице плакал пожилой солдат, как обнял его Твардовский, пытаясь успокоить. Солдат же бесконечно повторял одно и то же: «Сегодня люди перестали убивать друг друга!» А вечером гремел салют из всех видов оружия. Стреляли все. Стрелял и Александр Трифонович. Палил из нагана в светлое от разноцветных трасс небо, стоя на крылечке аккуратного прусского домика — последнего нашего военного пристанища. Какой невообразимый, немыслимый, какой веселый шум стоял тогда... «И ни один из этих и множества иных звуков не принадлежал чужой силе...» — писал Твардовский в том же своем очерке, назвав его «Утро праздника». Опустошив барабан, Александр Трифонович ушел к себе и заперся. Как ему писалось в этом неуемном шуме, всплесках хохота, нестройного хорового пения, среди всех этих звуков радости, рвавшейся наружу? Второй портрет нарисован в 1966 году в дачном поселке под Москвой, где постоянно жил Александр Трифонович и где много лет живу я. Портрет этот был впервые опубликован в книге его лирики, изданной «Советским писателем» в 1967 году. Подарив мне экземпляр книги, Александр Трифонович сделал под портретом шутливую надпись; она заканчивалась так: ...Ты вопреки веленью добрых правил На темени моем волос убавил, Чтоб сблизить с лысиной своей. Увы, двадцать четыре года отделяли один портрет от другого. Русые волосы и поредели, и поседели на прекрасной голове доброго молодца. В этом наброске я ограничился изображением головы. Официальный портрет требовал, наверное, воротника, галстука, бортов пиджака. Но для меня образ Твардовского не вяжется с городским его обличьем. Наши отношения сводились больше к ситуациям, когда он бывал или в гимнастерке, как в годы войны, или в расстегнутой куртке, свитере, ковбойке, ватнике — его обычной одежде дома и в поездках. Вот таким я видел его, когда он шел в лес по грибы, или пересаживал молодые деревья в своем саду, или отбрасывал снег с дорожек, орудуя огромной лопатой. В городском обличье я видел Александра Трифоновича гораздо реже, навещая его изредка в редакторском кабинете «Нового мира» либо на каких-нибудь официальных вечерах. Если не считать жизни в одном и том же поселке, где счастливая судьба снова свела меня с Александром Трифоновичем, мне выпала еще возможность нескольких совместных поездок с ним — на Смоленщину и на сибирские стройки. Как-то в середине пятидесятых годов Александр Трифонович предложил мне поехать с ним в Смоленск и оттуда в его родное Загорье. Мы гостили два дня в Смоленске у Марии Митрофановны, матери поэта, которая так счастлива была принимать редкого дорогого гостя, что и мне, случайному попутчику, досталась добрая доля ее любви, радости, гостеприимства. Оттуда мы съездили в совхоз Лонницу, к брату Твардовского, Константину Трифоновичу, унаследовавшему от отца мастерство и любовь к кузнечному делу. Погостив в Лоннице, мы отправились дальше, в районный центр Починок, неподалеку от которого, близ деревни Загорье, родился Александр Трифонович. Из Починка мы уехали на двух машинах и даже с эскортом — добровольный охотник, молодой паренек на мотоцикле, показывал дорогу. То есть он искал ее, эту несуществующую дорогу, среди полей, прорезанных перелесками, потому что и хутора, где когда-то родился Твардовский, как и дороги к нему, давно уже нет. Наш запыленный гонец то появлялся, то снова исчезал среди высоких хлебов, наконец возник, широко улыбаясь, издали возвещая и криком, и гудками, что нашел, нашел то место, где стоял когда-то отчий дом его прославленного земляка.
|
||||||