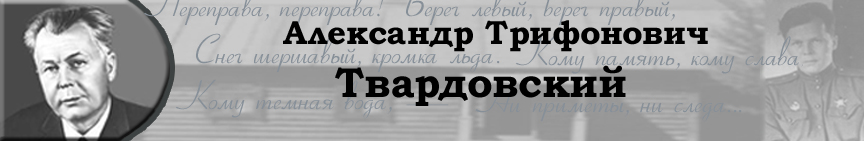 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
Дальше с большим тактом действительности вслед за этой строчкой идет краткая, как бы деловая информация о конечной судьбе вражеского самолета, об его признаках, контрастирующих с малостью винтовки в руках одного человека — «скоростной, военный, черный...» и т. д. Отметим здесь также перекличку эпитета «черный» с определением смерти как «черной». И затем сообщается, как он «ухнул в землю, завывая» — конечная деталь истории этого второго сигнала-звука смерти, ворвавшегося в тот дивный майский вечер. Но здесь этот сигнал уже сопровождается победоносной иронией, одновременно фиксирующей и силу врага, силу носителя смерти, и полноту его гибели: «Шар земной пробить желая, // И в Америку попасть». Это слова автора, но и слова бойцов, ибо они продолжают их репликами: «Не пробил, старался слабо. // — Видно, место прогадал». Трагическое противоборство жизни со смертью, жизни человека, как будто только одной спиной, тонкой кожей заслоненного от мощи наступающей смерти, разрешается этой победоносной иронией. Но победа — не безлична. И естественно следует последняя сцена главы, отвечающая на вопрос ее заглавия: «Кто стрелял?» Этот вопрос задает телефонный голос из штаба сразу же после того, как упал вражеский самолет. И для усиления вопрос повторяется трижды: «Адъютанты землю роют, // Дышит в трубку генерал. // Разыскать тотчас героя. // Кто стрелял? // А кто стрелял?» Ирония над врагом сменяется и чувством победоносного юмора, дружеского юмора и по отношению к самим себе. Героем оказался, понятно, Теркин. И торжество героизма также описано без малейшего приподнимания разными голосами-репликами, включая даже чуть-чуть завистливую реплику сержанта и немедленную ответную шутку-«сдачу» героя: «... не горюй, у немца этот — не последний самолет». И тем сильней изображен акт героизма, что заканчивается он шуткой-поговоркой, с которой «перешел в герои Теркин». Перешли в герои и он сам, и все то товарищество, которое он собой воплощает. Так кончается судьба и второго сигнала-детали в главе и судьба всего этого рассказа-дневника о подвиге, борьбе человека и со смертью, и со страхом смерти. Эпизод (как и ряд других мест поэмы, и ряд стихотворений) концентрирует в себе не только поэтику конкретного и вместе с тем многосторонне-знакового, символического изображения, развитую Твардовским в этот период, но и ряд других характерных элементов дальнейшего развития его поэтики. Прежде всего характерной для Твардовского многоплановой социально-психологической конкретности, синтеза повседневного и героического, детализации и «генерализации», новой структуры поэтического времени в условиях предельного напряжения, экстремальной ситуации жизни народа и отдельного человека. Отсюда и дальнейшее расширение и заострение интонационного многоголосия, размаха смелости, свободы системы слитных метонимических и метафорических образов, наметившейся в предыдущем периоде. В искусстве метафор, с одной стороны, продолжаются те простейшие формы точных уподоблений, большим мастером которых уже был к этому времени Твардовский. В этих уподоблениях так или иначе входит контекст войны. Орудийные стволы — «как стволы дубов мореных». И, наоборот, оглобли поднимаются, как зенитки. Другая, более косвенная связь с настроениями и событиями военного времени проявляется в таких сравнениях: «снег жесткий, как песок». Одновременно продолжается система очеловеченных психологизированных сравнений: «говор мокрых бревен» («У Днепра»); «рябая» земля, разрытая взрывами, «шепелявый» визг дивизионного снаряда или более сложное поведенческое сравнение: «... топит провод, точно в воду». Полнота значений этих уподоблений всегда усиливается их метонимическим контекстом. Наряду с этим сравнительно простым типом метафор, обогащенных новыми ассоциативными связями, при сохранении их полной зрительной, или слуховой, или поведенческой точности, существенно увеличивается роль наиболее сложных психологизированных и поведенческих метафор-сравнений, — вроде того сравнения капли смолы на стволе дерева в жаркий летним день в лесу со слезой во сне — сравнения, о котором уже упоминалось в первой главе этой книги. Еще больше, чем в период «Страны Муравии», применяются разнообразные олицетворения — гиперболические, шуточные (иногда с трагическим, а иногда непосредственно жизнеутверждающим вторым планом), сложнопсихологизированные. Многие поведенческие сравнения сделаны по принципу, который можно обозначить термином — «похожая непохожесть». Например, в бане человек идет в парную— «так ступает, точно лед // Под ногами тонкий». И далее: «Будто делает с трудом // шаг...» Тут же — пар «бодает в потолок». Такие оксюморонные образы применяются и при изображении самых главных переживаний и ситуаций. Вспомним образы «живой смерти» или «кровавой страды». Метафорические, сопоставляющие психологическое и предметное, сравнения-эпитеты соединяются с метонимическими деталями — «сиротливые дымы» («В наступлении»), «немыслимая тропа» и т. д. Некоторые метафоры превращаются в сложные системы смыслов, лейтмотивов, повторяющихся в разных контекстах и поворачивающихся, раскрывающихся разными сторонами своего поля значений. Например, образ битвы, как «сабантуя» в «Василии Теркине» или сравнение «пушки к бою едут задом» — там же. В этом сравнении есть принципиальная недосказанность, элемент народного присловия-загадки и в то же время ясная символика необходимости памяти в самом настоящем, сопоставлении с прошлым в битве за будущее. А образ «сабантуя» был, как рассказывает сам Твардовский, развернут из языковой горько-шуточной метафоры, созданной самими солдатами. В ткани поэмы Твардовского эта перекодировка расширилась. И метафора становится многозначным символом концентрации и движения человеческих сил в наиболее кризисной ситуации, максимального напряжения как бы «полевых работ» войны, работ «кровавой страды»; изменения и обогащения этого напряжения в ходе битвы за жизнь на земле, за мирный труд, за его действительное завершение, трагической иронии и мужественного юмора. Аналогично развивается и метонимическая стихия языка Твардовского. Некоторые метонимические образы также становятся более многозначными, емкими, афористическими и получают метафорический дополнительный смысл. Например: «... не гляди, что на груди, // А гляди, что впереди». Разобранные выше детали-сигналы имеют и метонимическое, и метафорическое поле значений. Показательно сопряжение точного описания с многоплановыми метафорическими и метонимическими связями в четверостишии: «Низкогрудый, плоскодонный, // Отягченный сам собой, // С пушкой, в душу наведенной, // Страшен танк, идущий в бой» («Теркин ранен»). Танк здесь имеет точные приметы и машины, неодушевленного предмета — «плоскодонный», причем со скрытым уподоблением лодке или кораблю, и живого существа — «низкогрудый». Исходное определение переходит в обратную связь свойства предмета с самим собой — как бы отражение свойства в его носителе («отягченный сам собой»). Это удваивает впечатление угрожающей тяжеловесности и агрессивности танка, с использованием дополнительного поля значения эпитета, и включает в метафорическое олицетворение элемент другого психологического ряда, самооценки и оценки со стороны. Третья строчка дает еще одну предметную деталь наступающего танка, усиливающую резкое ощущение прямой угрозы новым метафорическим поворотом. Атакующий танк нацеливает пушку не только на тело, но и на душу, устрашает само внутреннее «я» человека, и словно, «прямо» дополнительно подчеркивает эту угрожающую силу. А в следующей, последней строке уже не метафорическая, а непосредственная оценка завершает движение метафоры и вместе с тем точного описания наступающего танка, представляющего здесь собой и образ всего чудовища войны, смерти, страха. Метафора-олицетворение движется вместе с танком, разворачиваясь, раскрываясь новыми сторонами, наращивая собственную силу, наводя ее тоже прямо в душу читателя. Это движение, его эмоциональный эффект подкрепляется и выражается также синтаксической, ритмической, звуковой организацией четверостишия: не просто метафора, а метафора в стихах, где сама стихотворная интонация становится ее частью. Отсюда это нарастающее повторение ударной гласной «о» в первом двустишии, подкрепленное внутренней рифмой-подхватом (плоскодонный — наведенный) и закрепленное богатой рифмой третьей строки и теневой рифмовкой всего четверостишия; параллелизм и нарастание смысла определенных эпитетов и синтаксических элементов (плоскодонный, отягченный, наведенный). В первой, третьей и четвертой строках появляется дополнительная огласовка четырьмя ударными «у», с внутренней рифмой уд-уш-душ-душ, подчеркивающей связь между движением предмета и его психологическим эффектом, усиливающей возникающее чувство ужаса. И хотя в четверостишии нет звукописи в обычном смысле этого слова, все же выделяется группа доминантных звуков, отвечающих и впечатлению от звучания грохочущего приближающегося танка и звучанию слов, ассоциирующихся с соответствующими переживаниями. Общая синтаксическая инверсия, благодаря которой подлежащее поставлено в конце фразы, также усиливает эффект движения метафоры-олицетворения. Некоторые стихотворения Твардовского этого периода являются еще более сложными динамическими метафорами-метонимиями. Как, например, отмеченные выше стихотворения с метафорическими и «метаморфическими» сложными сопоставлениями — перекличками судеб природы, человека, их параллелизмами и оппозициями («Отцов и прадедов примета», «Перед войной: как будто в знак беды», «И цветут — и это страшно»), причем везде характерны сочетания точности непосредственно конкретного описания и многозначности метафорического, ассоциативного движения. И в целом для творчества Твардовского этих лет характерна «точная и нагая» речь, очерк, дневниковая запись событий, переживаний, размышлений, прямых оценок и т. д., где главным изобразительным средством является точный отбор деталей, фактов или само движение ораторско-публнцистической интонации, авторского голоса. А с другой стороны, еще большее развитие свободной, многоплановой, многоконтрастной ассоциативности, метафоричности, наметившейся уже в предыдущий период, но получившей теперь новый размах и напряжение. Отсюда и больший размах всех сопоставлений, увеличение степенен свободы самой формы высказывания и еще большая целеустремленность, пафос этой свободы и еще большая строгость соотнесения творческого воображения с непосредственным ходом потока действительности, фронтовой хроники в ее новой трагической напряженности. Отсюда и дальнейшее расширение многоголосия стихотворной и прозаической речи, включая и более активную роль и большее многоголосие непосредственного вмешательства авторского голоса, вместе с его небывалой эмоциональной напряженностью, сосредоточенностью на главной цели, страсти и личного, и коллективного переживания: «освободи страну свою». Все это выразило дальнейшее развитие народности творчества Твардовского.
|
||||||