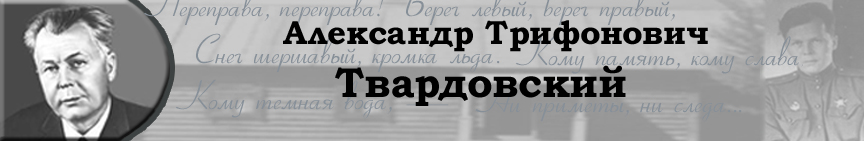 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
Черты поэтики |
|||||||
|
В упомянутой серии стихов нового жанра «Записной книжки» (и в меньшей мере в стихах других жанров) разговорная интонация приобретает новые черты — одновременно и большей непринужденности, свободы и большей затрудненности, выражающей именно эту свободу. Язык становится более прерывистым; нарушается его обычная последовательность, стройность высказывания. А вместе с тем — просторечие, с точными приметами просторечия именно тех лет: «бомба памяти дала». Опять много тире, многоточий; отрывистых, назывных, иногда незаконченных предложений. Неравномерен и синтаксис, меньше становится тех стройных синтаксических параллелизмов, которые были так характерны для большинства стихов 30-х годов и которые теперь еще более распространены в медитативных и ораторских стихотворениях. В некоторых стихотворениях свободно совмещаются отрывистые, короткие и распространенные фразы; повторы и нарушения обычной синтаксической последовательности, например, в стихотворении «Две строчки». Вновь возникают длинные фразы некоторых стихотворений и отрывков поэм 1929—1931 годов. Теперь появляются еще более длинные, развернутые сложные периоды, с системами параллельных предложений, начинающихся «что», «когда», «чтоб», «где», «и», «как» и т. п., ораторские периоды, охватывающие до восьми—десяти и даже до шестнадцати строк. Но эти периоды и в поэмах и в некоторых стихотворениях непосредственно переходят в синтаксические конструкции совершенно другого типа. Например, в стихотворении «Партизанам Смоленщины» — длинное — одиннадцать строк — сложноподчиненное предложение, с серией «чтоб… чтоб... чтоб...», с резкой сменой интонации переходит в краткую восклицательную фразу без подлежащего и сказуемого — «чтоб под каждою машиною // Рухнул мост и — аминь!». Границы строф и строк теперь часто не совпадают с границами синтаксических единиц, что было очень редко в стихах 30-х годов. И увеличивается разнообразие типов строф. Сверх того разнообразия, которое наметилось уже с 1928—1929 годов (путем сочетания четверостиший и двустиший, а также в ряде случаев пяти- и семистиший), возрождается и развивается подвижная, текучая строфика «Зеленого города» и первых двух поэм, но в сочетании с более выраженными напевными и ораторскими субинтонациями в разговорной интонации. Такая подвижная строфика появляется уже в лирике 1942 года, в стихотворении «И цветут — и это страшно». В дальнейшем (и одновременно уже в первых главах «Василия Теркина»), кроме пяти- шести- семистрочных строф, по схемам типа ааавваввав и др., часто также с теневыми рифмами, связывающими отдельные элементы этих конструкций, которые мы наблюдали уже во «Вступлении», теперь появляются более сложные строфы —до одиннадцати и даже семнадцати строк в одной строфе, а некоторые стихотворения целиком сложены восьмистишиями, например, «Бойцу Южного фронта» (1941). Еще более разнообразна шестнадцатистрочная строфа со схемой рифмовки авававаBaBcdcdcd в начале «Василия Теркина». Ряд менее сложных, но также многосоставных, и гибких строфических единиц характерен и для таких стихотворений, как «За Вязьмой», «Ноябрь», «Две строчки». Количественно все же и теперь в строфической системе резко преобладает традиционная куплетная схема с перекрестной рифмовкой, но она часто осложнена разностопностью, вклиниванием строф с парной или более сложной рифмовкой. А общую поэтическую систему в значительной степени определяют именно систематические нарушения этой господствующей традиционной строфики, которые в сочетании с указанными новыми особенностями языка определяют новую интонационную гибкость, свободу лучших стихотворений и обеих поэм. Метрический репертуар мало меняется по сравнению с предыдущим периодом. Дольники встречаются еще реже. Как и в предыдущем периоде, преобладают ямб и хорей, но их соотношение несколько меняется. Важнейшая и самая большая по размеру поэма «Василий Теркин» написана целиком хореем, кроме небольшой вставной песни. Но в лирике преобладает ямб (почти 50 процентов) — против 23 процентов, написанных хореем. Целиком ямбом написан и «Дом у дороги». Среди остальных размеров преобладает амфибрахий — около 19 процентов, затем анапест. Общие метрические признаки не имеют, как всегда, определенной корреляции со стилистикой, но все же можно отметить, что амфибрахий и пятистопный ямб тяготеют к наиболее медитативным интонациям, а внутри тех же метрических схем новое разнообразие ритмов создается главным образом новой подвижной строфикой и синтаксической свободой, разнообразием. Аналогичным образом развивались и другие элементы поэтики Твардовского этих лет — по тому же принципу концентрического расширения, увеличения амплитуды и свободы вариантов при сохранении основного движущего принципа. В частности, продолжаются способ изображения главного, существенного через внешне незначительные или не имеющие к нему отношения детали или языковые жесты и способ изображения многослойного содержания совместным движением подводного и надводного хода темы (например, некоторые слова солдата в стихотворении «В пути», мальчика в стихотворении «В пилотке мальчик босоногий», подводный ход стихотворения «Перед войной, как будто в знак беды»). И происходит дальнейшая разработка психологической многозначности деталей-сигналов в более широком контексте движения индивидуального и коллективного сознания, трагически заостренного движением основного конфликта времени, войны. Показательный пример — поэтическая функция совсем малой детали быта — звук полета майского жука в главе «Кто стрелял?» «Василия Теркина». Глава начинается описанием пейзажа, изуродованного войной,— майского или ранне июньского «вечера дивного», который идет по «полям пустым», когда «от окопов пахнет пашней, // летом мирным и простым», среди земли, «рябой от рытвин, // рваных ям, воронок, рвов», опаленных «смертным зноем жаркой битвы». И вдруг: «И откуда по пустому // Долетел, донесся звук, // Добрый, давний я знакомый, // Звук вечерний. Майский жук». Звук выступает как некий символ мирного летнего вечера. Но тут же двойственное восприятие его бойцами: «И ненужной горькой лаской // Растревожил он ребят, // Что в росой покрытых касках // По окопчикам сидят. // И такой тоской родною // Сердце сразу обволок!» И второй резий переход смысла: «Фронт, война, а тут иное: // Выводи коней в ночное, // Торопясь на «пятачок», // Отпляшись, а там сторонкой // Удаляйся в березняк, // Провожай домой девчонку, // Да целуй — не будь дурак. // Налегке иди обратно, // Мать заждалася...» Деталь игает роль сигнала, вызывающего поток памяти, воскрешающего утраченное время. Вспомним стихотворение «Матери» (1937), о котором говорилось в предыдущей главе. Но, в отличие от прустовских деталей-сигналов, деталь-сигнал у Твардовского имеет дополнительные психологические и поведенческие определения и даже переходит в некое существо, самостоятельное бытие, а не только бытие знака. И это бытие непосредственно сопряжено с одновременным контекстом. Есть некоторое отличие и от поэтики детали-сигналов в «Матери»: здесь сигнал становится однократным, точно прикрепленным к одному месту и времени движущегося настоящего, и вместе с тем более многокомпонентным. Это целый самостоятельный эпизод, микрорассказ, наплыв прошлого в настоящее. Звук жука выделен крупным планом, только звуковым, а не зрительным. А соотнесенное с всплывшим воспоминанием настоящее время (столь малое) время полета этого майского жука имеет сложное, многоплановое строение. Сопровождается и сложным, противоречивым переживанием: «ненужная» горькая ласка и, наоборот, родная тоска, каждое из которых, в свою очередь, содержит противоположный себе элемент. Сложное, как бы двухступенчатое сочетание, сопоставленное также (метафорически и метонимически) с многоступенчатым, многосторонним контекстом, обстановкой и в ней — сложной деталью-сигналом. Но эпизод с майским жуком этим наплывом воспоминания не кончается. После завершающего воспоминание-наплыв полустишия идет многоточие, пауза и затем в той же строчке, с некоторым скачком и несовпадением ритмической, строфической и синтаксической границ: «И вдруг— // Вдалеке возник невнятный, // Новый, ноющий, двукратный, // Через миг уже понятный // И томящий душу звук». Следующий миг — и второй сигнал-звук опять чего-то летящего, но резко противоположный предыдущему: и по размерности, и по продолжительности, и по психологическому воздействию. И затем эта деталь-сигнал развертывается в более сложный и более напряженный, трагический образ. Две строфы «поясняют», что за звук, поясняют также отражением в человеческом переживании, поведении — но уже через ближайшую память самой войны. Таким образом, звук майского жука получает дополнительную сигнальную функцию — как контрастная параллель этому звуку войны, этому второму сигналу, сигналу смерти, противостоящему сигналу жизни, весны, молодости. И в развернутом описании-комментарии передается опять во всей правде сложность коллективного переживания — и страха, и мужества бойцов, «ребят». И связи с этим несколько меняется интонация, появляются элементы прямой речи, а звук самолета нарастает, переходит в «страшный рев». А дальше идет неожиданное, но поэтически и в высшей степени логичное отступление — размышление автора, передающее и размышления самих бойцов, сливающееся с их мыслью, чувством, — о смерти на войне, об ее постоянной близости, немножко на первый взгляд странный при этом «разбор» вопроса о том, «в какое время года // Легче гибнуть на войне?». Горький трагический юмор этого «разбора» содержит в себе и нарастающее мужество, преодолевающее ужас. Движение как бы рассуждения, отвергающего смерть с полным сознанием страха перед ней, завершается естественным переходом в интонацию прямого обращения автора к одному из лежащих во время атаки с воздуха бойцов, — обращения, в котором с предельной лирической силой передан весь трагизм войны, — и нечто, преодолевающее трагизм самой его полнотой:
И какой ты вдруг покорный На груди лежишь земной, Заслонясь от смерти черной Только собственной спиной. Ты лежишь ничком, парнишка, Двадцати неполных лет. Вот сейчас тебе и крышка, Вот тебя уже и нет.
Но именно в эти минуты вновь вспоминается, но уже только автором, соприсутствующим, сопереживающим, то, что тогда вспоминалось при звуке полета майского жука. Вспоминается, как «забывание»:
Ты прижал к вискам ладони, Ты забыл, забыл, забыл, Как траву щипали кони, Что в ночное ты водил. Смерть грохочет в перепонках, И далек, далек, далек Вечер тот и та девчонка, Что любил ты и берег. И друзей и близких лица. Дом родной, сучок в степе...
С поразительной силой в этом отрывке соединяются деловая точность описания с мелкими поведенческими деталями («прижал к вискам ладони»), конкретность подробностей воспоминания («как траву щипали...»), забытого пареньком, но повторенного и даже дополненного авторским «я», в паренька вселившимся, и резко контрастный образ — «смерть грохочет в перепонках». И неожиданная заключительная малая подробность всего этого своеобразного воспоминания через то, что человек забыл — тот сучок в стене родного дома, та деталь, которая вдруг всплывает или может всплыть в памяти в этот предельный, пограничный со смертью миг жизни человека. Опять характерное для Твардовского превращение самой как будто мелкой подробности в самый емкий образ — символ самого главного, важного. (Вспомним «желуди» в «Братьях».) А перекличка этого отрывка с тем воспоминанием (авторское воспоминание о воспоминании) с удивительной психологической глубиной удваивает и расчленяет память, переживание. Исходная малая деталь-сигнал, звук майского жука приобретает еще одно, третье, художественное значение. Удваивает и совмещает утраченное и обретенное время, удваивает и совмещает контрастирующее с ним теперешнее, военное время. Время самой минуты воспоминания и время воспоминания сливаются в едином движении четырьмя планами — двумя настоящего, двумя прошлого, с четырьмя поворотами, совмещением и несовместимостью с собой. Опять создается то, что можно назвать сложной диссимметричной и антисимметричной структурой. Все это сосредоточено в одном месте и времени, в нескольких минутах одного майского вечера, и естественно подготовляет еще один и важнейший заключительный поворот. Поворот к решающему преодолению страха, к победе жизни над смертью («Нет, боец, ничком молиться // Не годится на войне» и т. д.). И развертывается следующая сцена этого вечера, «малого сабантуя». Поворот к форме своеобразного вопроса — прямой речи автора к самому себе: «Ну-ка, что за перемена? // То не шутки — бой идет. // Встал один, и бьет с колена // Из винтовки в самолет». И попадает в самолет, сбивает его — случай редкий, почти чудо, но в редкости и реальности этого случая — заостренный символический и гиперболический образ торжества мужества над смертью, над отчаянием, над покорностью. Превращение парнишек в героев. Сначала через одного из них. Л затем опять точное, как в военной корреспонденции, описание падения самолета. И тончайший по психологической проникновенности штрих: «Сам стрелок глядит с испугом». Испугом! Он победил — отчего же с испугом?! Но именно так может проявляться и высшее удивление человека перед неожиданностью, размером удачи в почти безнадежной ситуации — «что наделал — невзначай», и так оттеняется облегчение от только что пережитого и преодоленного смертельного страха.
|
||||||