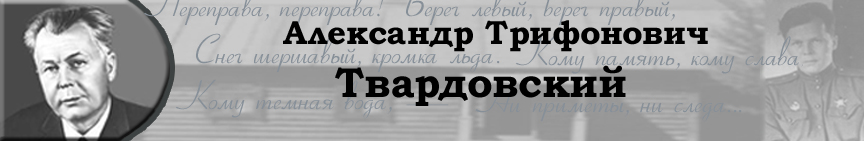 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс |
|||||||
|
Литературные взгляды |
|||||||
|
Поэтому не случайно в упомянутой речи «Поэзия и народ», перечисляя всех поэтов XX века, которые особенно повлияли на массового читателя, он после Горького называет «Демьяна Бедного, поэзии которого можно сделать много упреков, но никак не лишить ее большого общенародного звучания», и затем, конечно, Маяковского, Асеева с его «Конной Буденного», стихи о Ленине Полетаева, Тихонова, «Мать» Дементьева, «Гренаду» Светлова, «Повесть о рыжем Мотеле» Уткина, «Железняка» Голодного, «некоторые стихи К. Симонова и особенно М. Исаковского». Но Твардовский умел найти это прямое содержание и в поэтах, казалось бы (особенно в глазах представителей вульгаризаторской, вульгарно-социологической критики), далеких от главного содержания народной жизни. В последние годы своей жизни он открыл для себя Ахматову и Цветаеву, посвятил им специальные статьи. В статье об Ахматовой (1966) он пишет: «В целом — это лирический дневник много чувствовавшего и много думавшего современника сложной и величественной эпохи, хотя бы и отраженной в этом дневнике далеко не во всей полноте и значительности». Он показывает жизнелюбие, человечность, подлинность, искренность, необычайную сосредоточенность нравственного начала, дружбу с читателем, чувство любви к родной земле, свободу и непринужденность интонации, «неотразимую психологическую точность и зоркость», «особую доверительность поэтических признаний», сложную простоту, использование в поэзии элементов прозы, будничного, как бы прозаического языка. И это было родственно его собственной поэтике (хотя о прямом влиянии все же не могло быть и речи, в отличие от связи Твардовского с Буниным). В критерий оценки творчества Ахматовой Твардовский включает и отношение к ней широких слоев читателей. И еще одна важная деталь: он рассматривает поэзию вместе с личностью поэта. Он не забывает про вопрос — «кто ты есть?». И в Ахматовой ему импонировали стойкость ее поэтической позиции, мужество, верность родной стране. А когда Твардовский с ней встретился впервые лично (странным образом, это произошло. .. в Италии, куда почти одновременно и он, и она ездили, хотя по разным причинам), то написал мне в письме о своем впечатлении от личного знакомства: «великолепная старуха». В Марине Цветаевой — поэте совсем другого типа, чем Ахматова, — Твардовский также уловил то главное, что он ценил и в искусстве, и в людях. Любовь к жизни, России, «боль сердца», «глубокая эмоциональная сила», подлинность «живой, а не искусственной» речи. Зорко отмечает ее индивидуальные особенности — трагическое начало ее поэзии, судьбы; «затрудненную, местами как бы пунктирную, где заменой слов являются необыкновенно выразительные тире, стихотворную речь» Цветаевой. Но несмотря на все отличия Цветаевой и Твардовского, мы видели, что в поздней (а иногда и в ранней) лирике Твардовского есть элементы, хотя ив другой системе, этой пунктирности и затрудненности речи, этих обильных тире, а иногда и просто эллипсов, пропусков. Менее документировано пока отношение Твардовского, к Пастернаку. Помню, что в разговорах Твардовский с юношеских лет включал Пастернака в число наиболее талантливых мастеров советской поэзии. Поэтика Пастернака была ему, в общем, чужда. Но он старался подойти к ней объективно и внимательно. В одной из наших самых ранних бесед, где-то в 1928—1929 годах, он сравнил Пастернака с некоторыми гармонистами, которые иногда играют что-то совсем непонятное, но все-таки хорошее. В печати он очень хвалил, во время войны, переводы Пастернаком Шекспира, сравнивая их ценность с воинским подвигом, но воздерживался от определенных высказываний о творчестве самого Пастернака. В беседах редко задевал эту тему, но, в общем, до конца жизни сохранял чувство неприятия существенных элементов этого творчества. Критерий соответствия литературы «непосредственной действительности» Твардовским в разные этапы своего пути понимался с разной степенью широты, в последние годы со все большей широтой, хотя опять-таки в определенных берегах. Показательно его выступление — «Рим. Осень. 1965». Он выдвигал в дискуссии с группой западноевропейских писателей именно критерии художественной правды — в том числе применительно к ряду писателей, которые многими у нас и до, а частью и после этого, безоговорочно зачислялись в число «модернистов», принципиально искажающих действительность или уходящих от нее. Твардовский называл там, как достойных уважения и несущих в той или иной степени жизненную правду художников, не только Хемингуэя, но также Камю, Кафку, Ионеско. «Когда мы называем здесь, ну, допустим, «Процесс» Кафки или «Носорога» Ионеско, то нет спору, что эти произведения очень сложные и даже с несколько притемненной формой. Но что безусловно — эти произведения обладают в высшей степени существенным содержанием. Если я позволю себе напомнить вам такую деталь из «Процесса» Кафки, как «неперенесение» служителями «Дома Правосудия» свежего воздуха, с которым они соприкасаются при выходе из этого помещения, то надо сказать, что эта деталь необыкновенно выразительна с точки зрения того содержания, которое заложено в романе Кафки». В лучшем романе Хемингуэя «По ком звонит колокол» Твардовский увидел «обязательство человека, который несет ответственность за дело освобождения человечества на том участке, где он оказался солдатом этого борющегося человечества». Дело освобождения человечества, чувство ответственности за него художника включается, таким образом, Твардовским в решающие критерии художественной правды и силы. Твардовский силой своего таланта и ума, воспитанного на ленинской теории отражения, умел разделять разум и предрассудок художника, различать влияние всяких скверных «измов» и то, что дается талантом и стремлением к правде. И хотя Твардовскому была чужда «притемненность» формы, но совсем не были чужды ни условность, ни гротеск, широко присутствовавшие в его основных произведениях, начиная со «Страны Муравии» и кончая «Теркиным на том свете». С другой стороны, условность и гротеск в творческой системе Твардовского имели возможности и функции, которые, как мы видели, были чужды и даже противоположны и Кафке, и Ионеско. Эта широта не переходила в принцип «реализма без берегов». Наоборот, в том же выступлении он ясно от него отмежевывается. «Я не сторонник реализма, зажатого в гранитные берега и имеющего нарочито обуженное русло. Нет. Но и безбрежность реализма, если уж продолжать эту обязательную фигуру, может представиться в виде трудно обозримого и трудно проходимого болота». По поводу одного из фильмов Феллини Твардовский говорит о «переизбытке, излишестве формы» как «забвении одного из важнейших законов искусства — об экономичности выражения», с чем связано «отсутствие той тайны, которая всегда ощущается за совершенным произведением»; но по поводу фильма Пазолини — очень «авангардистского» с «нарушением всяких традиций»,— что это художественно оправдывается «благородной идеей». Избыточность формы противоречит самой «тайне» искусства. Но тайна основана на правде во всем многообразии форм ее воспроизведения, отражающем многообразие тенденций самой действительности, и включает в себя и любую смелость формы, если она выражает «благородную идею», порожденную действительностью. Такое понимание — и ширины, и границ реализма, и вообще художественной правды — позволяло Твардовскому, особенно в последний период его деятельности, оценить спектр художественного опыта современного искусства в самых разных и разнообразных его представителях. Но все же широта сочеталась у Твардовского с определенной избирательностью даже внутри круга, очерченного его собственными общими критериями, что приводило иногда и к суженному применению этих критериев. Вообще именно у самых больших художников часто наблюдается сочетание широты взгляда с такой его избирательностью. И у Твардовского эта избирательность очень характерна, в особенности в области для него наиболее важной — поэзии. Кроме его оценок Блока, Мандельштама, Пастернака, характерны также высказывания о Маяковском, Есенине, Заболоцком, Сельвинском, Багрицком. Маяковского он всегда считал высокоталантливым поэтом, «огромным литературным явлением», ценил его гражданские позиции, определенные новаторские достижения его стиха, в частности, использование разнообразных разговорных интонаций, сюжетности в лирике, но ему были чужды многие черты поэтики Маяковского. Отношение к Есенину сформулировано в его статье об Исаковском, некоторых внутренних отзывах, письмах, устных высказываниях. В частности, он писал про Есенина, что тот «слишком принадлежит, при всей яркости своего лирического дара, своему времени, а свое время бывает большим и бывает малым, более или менее коротким временем» (подчеркнуто Твардовским), и был склонен считать, что время Есенина уже прошло. «Нам более сродни нежность и мудрость, мужественность лирики Пушкина, чем нежность и расслабленность и известная неглубокость, характеризующая лирику Есенина. Но это не лишает ее ценности в своих пределах». Отталкивание от поэта, именовавшего себя последним поэтом деревни, Твардовского, которого так часто изображали также прежде всего поэтом деревни, было одним из заостренных проявлений его новаторства, несмотря на односторонность и неточность характеристики Есенина. Жизнь не подтвердила мнение, что время Есенина прошло. Твардовский исходил из своего основного пафоса новой конкретности новой действительности. И связанных с этим требований наиболее глубинного освоения и старых ценностей. С другой стороны, отношение Твардовского к поэзии Заболоцкого, как и отношение Заболоцкого к поэзии Твардовского, — нередкий в истории литературы пример, как два больших поэта, во многом взаимодополняющие друг друга или перекликающиеся, тем не менее этого не осознавали. Из конструктивистов Твардовский выделял Багрицкого, особенно «Думу про Опанаса», которую называл «замечательной поэмой». Твардовский в выступлении на съезде учителей впервые предложил включить в школьные программы и стихи Багрицкого. Несомненно, существуют некоторые переклички в их творчестве: пафос труда, люди труда, элементы сюжетности в лирике и др. Но в целом «биологизм», напряженная «предметность», некоторые элементы литературности, романтической заданности творчества Багрицкого были чужды поэтике Твардовского, и никакого прямого влияния Багрицкий на Твардовского никогда не оказывал. Существовал и круг современников, наиболее близких его творческим принципам. Среди поэтов это были прежде всего Исаковский, а также, по-другому — Маршак, Кулешов, отчасти Гамзатов, Кулиев, Н. Дементьев, Купала, Колас, Яшин. Маршака он ценил не только как поэта для детей и переводчика, но и как лирика, хотя и с оговорками (в письмах, а не в печати). Среди своих младших современников положительно выделял в разные этапы своего пути (как отмечалось выше) В. Шефнера, К. Ваншенкина, Е. Винокурова, А. Прасолова, А. Жигулина и некоторых других. У Евтушенко ценил то, что его поэзия затрагивает «интересы и настроения больших общественных слоев». Критерии отбора прослеживаются в его подборе стихов для «Нового мира». Зато довольно широк был круг прозаиков, которых он ценил: Казакевич, Овечкин, Абрамов, Панова, Залыгин (в некоторых вещах), Айтматов, Грекова, Драбкина, Троепольский, Берггольц (как автор «Дневных звезд», которые он ценил больше, чем ее стихи), Тендряков, Яшин (которого именно он оценил как прозаика), Соколов-Микитов, Можаев, Фоменко, Е. Дорош и ряд других, неоднократно выступавших и на страницах редактируемого им журнала. Здесь совершенно ясно действовали те же критерии отбора: максимальная правдивость, конкретность, соотнесенность с «непосредственной действительностью», ее основной социально-психологической проблематикой. В статьях об Исаковском (1949—1969 — дата последнего варианта) и в его приветствии Исаковскому в день его 70-летия (1970) сформулирован ряд исходных и дополнительных тезисов. Первичность, достоверность отражения действительности в ее прямом содержании, не исключая в определенных рамках и «непрямого». Новизна жизненного материала и умение показать новые жизненные явления, когда они только что складываются. Отсюда — «необычная свежесть возведения буднично-прозаической подробности в поэтическое достоинство». «Способность даже в непритязательной на первый взгляд форме как бы ненароком отозваться на острые и глубоко существенные стороны народной жизни». Как дальнейшая конкретизация — «раздумчивая неторопливость, даже деловитость лирической интонации». Умение включить «простые житейского обихода слова» в «несомненность более высокого строя речи, не утрачивая простоты». И еще далее: «... доброе лукавство немногословного народного юмора, проглядывающее сквозь нарочитое простодушие». Новое развитие в Исаковском «певучего начала России». И в целом: «Свой строй, свой склад поэтической речи, смело черпающий слова и обороты современного разговорного языка, в том числе заведомые «прозаизмы» в сочетании с музыкальной основой, идущей по преимуществу от народной песни». Более того, — что особенно специфично для индивидуальности Исаковского, — искусство в лучших стихотворениях даже примелькавшиеся, стертые слова и обороты «газетно-пропаган-дистского» или другого «банального обихода» соединить со словами такой искренности или произнести их с такой силой чувства, что они приобретают новую свежесть и силу. И как дополнительные черты конкретности Твардовский отмечает также особую «географическую» конкретность примет родных мест, родной природы, той малой Родины, которая была так дорога и самому Твардовскому и так связывалась органически с большой Родиной. И в целом: «негромогласная» правдивость и сила чувства. «Целостный дух и склад его поэзии, характеристические черты ее формы как нельзя более близки духу и складу народного труженического характера, чуждого горлопанству и краснословию, более способного высказаться на деле, чем на словах, отнюдь не лишенного, однако, чувства юмора».
|
||||||