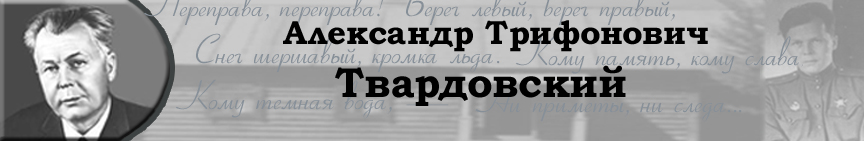 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
И.С. МАРШАК. "ТВАРДОВСКИЙ И МОЙ ОТЕЦ" |
|||||||
|
Немало воспоминаний и литературных исследований посвящено Маршаку и А.Т.Твардовскому. Но больше четверти века они были близкими друзьями, существенно влияли друг на друга. Каждый из них хорошо сознавал и высоко ценил значение другого — настолько, что счел своим долгом на склоне лет, в перегруженное другими работами и замыслами время, не пожалеть труда и достаточно подробно об этом значении написать. Маршак в 1961 году опубликовал большую работу о поэзии Твардовского, которая была издана отдельной книгой. Твардовский написал при жизни Маршака статью о его переводах, а после его смерти — краткое предисловие к посмертной журнальной публикации одного из лирических циклов Самуила Яковлевича и обширную статью для восьмитомного собрания его сочинений. Моего отца ко всем близким ему по духовному складу выдающимся поэтам привязывала настоящая, большая любовь. И начиналась эта любовь так, как всякая большая любовь начинается на земле: он воспринимал ее как величайший дар судьбы, бесконечно радовался этому дару, многие дни буквально им жил. Каждого близкого человека старался он в это время приобщить к созерцанию новой, открывшейся ему великой красоты, каждому гостю читал (обычно наизусть) особенно полюбившиеся ему строки, для каждого слушателя — выразительным чтением и меткими характеристиками — старался сделать доступным содержащиеся в них находки (эти характеристики, рожденные в пылу горячей беседы, закреплялись в его памяти, он продолжал их шлифовать на протяжении жизни, многие из них легли у него на бумагу в поздних заметках о мастерстве или в лирических стихах). В тяжелый для отца 1937 год, год его 50-летия и первый год после смерти его старшего друга — Горького, он как-то приехал из Москвы с новым запасом разнообразных по ритмам, настроениям и раздумьям стихов, которые в упоении читал каждому приходившему к нему литератору, товарищам по редакции, всем близким людям: ...Далёко стихнуло село, И кнут остыл в руке, И синевой заволокло, Замглилось вдалеке. И раскидало конский хвост Внезапным ветерком, И глухо, как огромный мост, Простукал где-то гром... ...Большаком по правой бровке, Направляясь на восход. Подпоясанный бечевкой Шел занятный пешеход... ...— Тут селедочка Была, была, была, Что молодочка Дала, дала, дала... Тут и соточка Лежит — не убежит... Эх, ты, сукин сын, Камаринский мужик!.. И, бесконечно повторяя эти и другие строчки, отец с любовью рассказывал про свою встречу в Москве со статным, красивым двадцатишестилетним поэтом, еще недавно крестьянским юношей, написавшим удивительную поэму. То был рассказ о вновь вошедшем в литературу человеке. Но в словах отца не чувствовалось ни малейшей снисходительной нотки, умиления молодостью «начинающего автора», выдачи ему восхищения «авансом» — он говорил о нем как о зрелом мастере, достойном и выдающемся литературном деятеле, не делая никаких скидок. А вскоре к нам в квартиру на углу улицы Пестеля и Литейного приехал сам автор поэмы — большеголовый и светловолосый, с открытыми бледно-голубыми глазами, строгими, но простыми повадками, тихим, то низким, то высоким голосом и радующей душу улыбкой, еще больше раскрывавшей его глаза и собиравшей нотную линейку морщин на лбу. Два высоких окна, выходивших на полный трамвайного грохота и звона Литейный проспект, между ними, поперек проема,— большой, заваленный рукописями стол, длинные боковые стены, скрытые книжными полками. За столом усталый, но счастливый отец, а в приставленном к столу глубоком кожаном кресле молодой гость. В те первые годы больше говорил отец, а Александр Трифонович слушал. Речь шла о поэтическом мастерстве — о звучании слова, прозе в поэзии, плохих и хороших рифмах,— что потом вошло в книгу «Воспитание словом». Отец читал на память отрывки чуть ли не из всех русских поэтов, давал возможность послушать музыку английских стихов, обращался к эпосу, фольклору, поэтам древности. Приходят близкие друзья отца по редакции, ленинградские писатели, артисты, художники — всех он спешит познакомить с новым большим поэтом, просит его вновь и вновь почитать «Муравию», спеть запомнившиеся на всю жизнь в его исполнении народные песни: Ой, во поле ружа расцвела, Ой, во поле ружа расцвела. Имела я мужа, мужа я имела, Имела я мужа-пияка. Или: Сел на лавку, думал-думал — Нет, не приголубит. А и приголубит, да не поцелует, — Сел на лавку, думал-думал, — Нет, не поцелует... С тех пор Твардовский уже всегда незримо присутствовал в доме Самуила Яковлевича — так же, как и сейчас он там, вместе с хозяином дома, хотя их обоих уже нет не только там, но и нигде (помните: «Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье...»). Я это сперва засвидетельствовал со стороны, а уже потом нашел в их переписке такие строки: «Ни на минуту все это время не забываю о Вас, мой дорогой друг...» — писал отец Александру Трифоновичу из Крыма в Москву 9 ноября 1938 года. «Дорогой Самуил Яковлевич! Дорогой не для проформы, а действительно дорогой. Всякий раз, как ты уезжаешь, либо я — всякий раз — и с каждым разом все острее — чувствую это: дорогой ты человек, Самуил Яковлевич! И не для одного меня. Только для меня особенно. Настолько я привык жить и думать вместе с тобой, что просто безлюдно становится, когда тебя нет...» (из письма А. Твардовского от 22 ноября 1940 года). Все эти фразы приобретают особенную значимость, если вспомнить, что оба поэта терпеть не могли напыщенности и высокопарности т! предпочитали в проявлении чувств сдержанность и простоту. Со дня их знакомства до смерти Самуила Яковлевича прошло двадцать семь лет. В книжных шкафах отца около трех десятков книг с дарственными надписями Александра Трифоновича, в архиве на улице Чкалова десятки его писем и телеграмм. В последнее время этот архив пополнился копиями писем и дарственных надписей Маршака, сохранившихся в архиве Твардовского. В конце 1937 года Ленинградское отделение Детгиза, редакцией которого руководил Самуил Яковлевич, распалось, сам он подвергся жестокой «проработке». После многих лет отчаянной гонки, чуть ли не круглосуточной работы с авторами, борьбы за новые и новые книги и направление «большой литературы для маленьких», создания всесоюзного издательства вдруг наступила тишина, в которой никуда не нужно было спешить, не к чему было приложить кипучую энергию. Вместо непрерывных звонков по телефону и вереницы приходивших в дом авторов, множества общественных обязанностей — мертвящее спокойствие. Отец заболел — совершенно потерял сон, не мог есть, впал в тяжелую депрессию. Физиолог и врач, ученик И. П. Павлова, академик А. Д. Сперанский, близкий друг отца, а впоследствии и друг Твардовского, перевез Самуила Яковлевича в Москву и поместил его в нервную клинику больницы на Щипке. Сохранилось письмо моей матери к Александру Трифоновичу, написанное в 20-х числах декабря 1937 года: «Уважаемый тов. Твардовский, Самуил Яковлевич Маршак получил Ваши стихи и очень благодарит за них. Самуил Яковлевич сейчас в Москве, болен, находится в больнице и был бы очень рад повидать Вас. Хорошо, если бы Вы могли зайти к нему 24-го или 25-го с. м. часа в 4 дня...» И Твардовский пришел — с гостинцем, завязанным по-деревенски в платочек, и с добрым, мудрым участием, столь необходимым отцу в то время. И стал у него бывать часто, слушал его написанные в больнице переводы из Бёрнса, его заметки в прозе (отец тогда, в частности, записал рассказ медсестры больницы, которая когда-то ухаживала за Лениным), читал ему свои стихи, рассказывал о деревне, о товарищах по филологическому факультету, на котором учился, шутил. И всем этим немало способствовал физическому и душевному выздоровлению Самуила Яковлевича. Дружба между ними стала тогда более простой и человечной, им уже стало нужно постоянно общаться друг с другом, знать, чем другой занимается. В конце ноября 1938 года отец окончательно перебрался в Москву, получив квартиру на улице Чкалова (тогда Земляной вал). А вскоре Александр Трифонович поселился в новом доме на улице Горького. Оба они стали еще чаще бывать друг у друга. Зимой 1939—1940 годов шли тяжелые бои на линии Маннергейма. Александр Трифонович провел финскую кампанию на фронте и часто бывал в Ленинграде. Туда же на довольно продолжительный срок приехал Самуил Яковлевич. Они вместе подолгу беседовали в госпиталях с ранеными (из этих бесед родилось их единственное совместное произведение — большой литературный очерк «Герой и его мать», о революционной юности Героя Советского Союза генерал-майора танковых войск В. Н. Кашуба, о его семье и о его участии в последних боях, в которых Кашуба потерял ногу). Вместе они сотрудничали в красноармейской газете Ленинградского военного округа «На страже Родины». Собирательный образ Теркина, так развитый потом Александром Трифоновичем в его бессмертной поэме, был тогда общим героем ленинградской поэтической бригады (о нем писали и Твардовский, и Тихонов, и Маршак). Я встречал их обоих в ту пору в ленинградской гостинице. Помню превращенный в столовую ресторан «Европейской», в котором подавали только рыбные котлеты с пюре, помню Александра Трифоновича в военной гимнастерке, кажется, со шпалой — деловитого, грустного и веселого. Запомнился его устный рассказ о какой-то встрече в армейском штабе: сначала возглавил трапезу любивший выпить генерал-майор, и все ее участники тоже показывали себя мастерами в этом деле; потом пришел генерал-лейтенант, употреблявший только нарзан, и за столом установился трезвенный дух; наконец, явился генерал-полковник, обругал воду, и все снова перешли к водке. Мой отец очень смеялся, слушая Твардовского. В совместной работе, в тесном общении они начали говорить друг другу «ты». И в это же время стало сильнее проявляться влияние не только старшего поэта на младшего, но и младшего на старшего. Весной 1941 года состоялось первое награждение Сталинскими премиями. Твардовскому была присуждена премия первой степени за «Страну Муравию». Александр Трифонович вышел в первый ряд деятелей советской культуры. Самуил Яковлевич поехал поздравить Александра Трифоновича в утро объявления о награде, взяв с собой обоих своих сыновей — меня и шестнадцатилетнего Якова. Встреча была простой и трогательной — с чтением стихов, веселым разговором, кажется, с пением тех же народных песен. В то последнее, предвоенное полугодие оба поэта были очень близки — их связывали борьба за высокую литературу, общие дела. В записке без даты (начало 1941 года), посланной отцу в подмосковный санаторий, Александр Трифонович писал: «...Собираюсь приехать к тебе, о многом поговорить, посоветоваться... Пишу, перевожу (Франко), немного читаю. Очень любопытствую, что ты насочинил там...» На протяжении Великой Отечественной войны они встречали друг друга редко. Различие возраста и здоровья сразу определило разницу их участия в ней: Александр Трифонович всю войну провел на фронте, иногда на самых тяжелых его участках (он, например, чудом вышел из окружения под Каневом весной 1942 года); Самуил Яковлевич, хоть и выезжал несколько раз для встреч с бойцами на фронт, основное время прожил в затемненной и холодной Москве. Но оба они достойным образом участвовали в общенародной борьбе с лютым врагом с помощью свойственного им оружия. Из Отечественной войны Маршак и Твардовский вышли с глубокими душевными ранами, изнуренные работой, постаревшие, но еще более профессионально окрепшие, с новым опытом и новыми замыслами. Хорошо помню щемящую тишину в кабинете отца, когда Александр Трифонович кончил читать звучавшие как реквием только что написанные строки «Я убит подо Ржевом...» и «В тот день, когда окончилась война...». Это были проникновенные стихи, достойные великой темы. Таким был и «Василий Теркин», и опубликованная к тому времени поэма «Дом у дороги». Все это Самуил Яковлевич запомнил и полюбил ничуть не меньше «Страны Муравии». Наверно, я не ошибусь, сказав, что все главные свои вещи каждый из двух поэтов проверял, читая их другому. Между ними уже не было и следа отношений учителя и ученика — их встречи казались похожими на то, как, по моим представлениям, встречались люди в платоновской Академии, в академии Лоренцо Медичи или — зачем ходить далеко,— скажем, в некрасовском «Современнике». К началу 1956 года относится одна особенно врезавшаяся в память встреча моя с Александром Трифоновичем. Отец серьезно заболел в Крыму — я поехал за ним и привез его в Москву в плохом состоянии. Крымские врачи заподозрили у него туберкулез легких, а в московской больнице, куда его положили на лечение и обследование, консилиум виднейших медиков поставил еще более мрачный, сообщенный мне одному диагноз — рак легкого, не подлежавший никакому лечению (ни хирургическому, ни радиологическому) ввиду общей ослабленности организма. Сразу из больницы я поехал к Твардовскому,— только с ним мог я поделиться этой камнем легшей мне на сердце тайной. И Александр Трифонович разделил со мной горе по-братски — провел со мной несколько часов, разговаривал в моем присутствии с разными влиятельными людьми о принятии возможных медицинских мер, старался как-то отвлечь мои мысли (впоследствии тот категорический диагноз был подвергнут сомнению, а состояние отца значительно улучшилось). Примерно в то время я особенно задумывался над проблемой восприимчивости человека к вредному действию на его личность внешнего успеха (мне тогда самому приходилось подвергаться некоторому испытанию в этом отношении, поэтому для меня было небезразличным двустишие из переведенных отцом «Прорицаний невинности» Блейка: «Сильнейший яд — в венке лавровом, которым Цезарь коронован»). И я присматривался к «реакции на успех» других людей, в частности Твардовского. Конечно, в очень небольшой степени что-то в нем в те времена изменилось — какая-то снисходительность и мера «большими числами» по отношению к окружающим стала чуть-чуть чувствоваться. Но у него это было очень внешней, очень тонкой корочкой, сквозь которую любому человеку так легко было пробиться к чуткому, по-прежнему восприимчивому, ни в какой мере не усыпленному сознанию. Пожалуй, только Александр Трифонович и Самуил Яковлевич из всех мне близко знакомых людей оказались благодаря их высокой духовности не восприимчивыми к «яду лаврового венка». И еще одно качество Твардовского проявилось для меня в последние годы жизни моего отца особенно отчетливо — его бесстрашие и бескомпромиссность в делах, которые он считал ключевыми. Это его качество запало мне в душу вместе с советом, который он мне дал, когда я рассказал ему о ведущейся мной борьбе за направление порученного мне дела: действовать смело, так, чтобы было «либо пан, либо пропал». Я хорошо понимал, что говорит он это не для красного словца, а примерив мое положение к себе: он бы именно так поступил на моем месте. В августе 1961 года на улицу Чкалова пришло удивительное по искренности, точности и выразительности письмо. Оно было написано тремя братьями, мать которых попала в заключение из-за недостачи в доверенной ей сельской лавке. Ребята писали, что им очень трудно без матери. «Дорогой дедушка, а как мы вырастим большие, то за вас отслужим, и за маму, что она должна отработать 4 года, и за Ваш труд, только не оставьте нас без мамы. Мы хотим учиться и учиться...» Самуил Яковлевич был потрясен неизбывностью детского горя, наполнявшего каждую строчку этого письма, и тут же написал обращение в Президиум Верховного Совета РСФСР с просьбой о помиловании. Потом он показал письмо ребят и свое обращение Александру Трифоновичу. Твардовский был так же взволнован письмом и горячо присоединился к ходатайству Маршака. Могу добавить, что мать была на основании их ходатайства помилована, а спустя десять лет сообщила мне, что три ее сына выросли достойными людьми, получили среднее образование, успешно служат в Советской Армии («...Ни один из них не курит, не пьет. Письма домой пишут регулярно, всегда перед праздником, на 8 Марта, День Советской Армии, мы уже ждем поздравительные. А что же больше нужно матери и отцу, если их сыновей нет дела...»). С. Я. Маршака постоянно окружали сменяющие один другого люди, он стремился быть ими окруженным. Должно быть, в каждом из них он находил частичный «резонанс», а совокупность окружения как-то воспринимала его духовное «излучение» в целом. Но как же дорог ему должен был быть человек, способный к резонансу не частичному, а почти всеобщему. Такими Твардовский и Маршак были друг для друга. То, что они встретились и более четверти века прожили вместе,— великое счастье. 1973
|
||||||