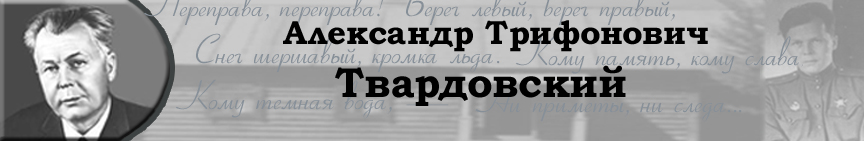 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ. "ТАК ПРИШЕЛ ОН В НАШУ ШКОЛУ ЖИЗНИ..." |
|||||||
|
Первый раз я встретился с Александром Трифоновичем Твардовским, а точнее — с Сашей Твардовским, зимой 1926 года, в январе или феврале, тогда ему было неполных шестнадцать лет. В Смоленске проводился губернский съезд селькоров, на который пригласили и Сашу Твардовского — селькора с почти уже двухлетним стажем. Во время обеденного перерыва на съезде ко мне в редакцию газеты «Рабочий путь» он и пришел. Это был стройный юноша с очень голубыми глазами и светло-русыми волосами. Одет был Саша в куртку, сшитую из овчины. Шапку он держал в руках. Сейчас не сохранилось того дома в Смоленске, по улице Карла Маркса, в котором помещалась редакция «Рабочего пути». Но я отлично помню, в какой комнате мы встретились. Помню большой стол, покрытый почему-то черной клеенкой, за которым я работал и за который рядом со мной — плечом к плечу — сел Твардовский. Он дал мне несколько старательно переписанных стихотворений, и я стал читать их. Стихи Твардовского мне понравились. Конечно, они не были совершенны, как и стихи всякого начинающего поэта, но тем не менее нетрудно было заметить, что Твардовский пишет не так, как другие: он по-своему видит описываемое в стихах и старается говорить своими словами, не прибегая к установившимся шаблонам стихотворной речи. В этом смысле стихи были поэтически свежими, в своем роде оригинальными, мало похожими на те стихи так называемых «крестьянских поэтов», которые печатались в то время в больших количествах. Если не изменяет мне память, я выбрал для «Рабочего пути» два стихотворения, которые показались мне наиболее удавшимися, и попросил редакционного художника, чтобы тот нарисовал портрет автора. Стихи с портретом появились то ли на следующий день, то ли спустя еще один день. Напечатаны они были на очень видном месте — на третьей странице сверху, в правом углу. И я думаю, что Саше Твардовскому было приятно вернуться домой со съезда селькоров уже в качестве поэта, которого печатает губернская газета, печатает даже с портретом. В следующий раз я встретился с Твардовским в двадцать восьмом году, под осень. Он приехал, чтобы устроиться на работу. И конечно же больше всего ему хотелось работать в газете. Об этом он просил и меня. Однако ни я, ни кто-либо другой ничего не могли сделать. В то время существовала еще безработица, и желающих найти работу было много. А у Саши не было к тому же никакой специальности. Что касается редакции газеты «Рабочий путь», то взять его туда было тоже невозможно. В то время весь штат редакции состоял из восьми или десяти человек. Включить в штат еще хотя бы только одного человека газета не могла: она и без того приносила убыток и никаких дотаций ни от кого не получала. И было поэтому не до расширения штатов. Об этом я и начал говорить Саше Твардовскому, когда тот, встретив меня на улице, завел речь об устройстве на работу в редакцию. И между прочим я посоветовал ему: — А почему бы вам (мы тогда были с ним на «вы») не поехать обратно домой? Подождали бы там, пока положение не изменится к лучшему, а потом можно было бы подумать о работе в Смоленске. — Нет,— решительно ответил Твардовский, — домой я не поеду. Попробую все-таки остаться здесь... И он остался в Смоленске, хотя приходилось ему иногда очень плохо. Он скитался по чужим углам и жил за счет грошового гонорара, получаемого им за стихи, изредка печатавшиеся в смоленских газетах. К этому времени, то есть к концу двадцать восьмого года или к началу двадцать девятого, относится одно событие, которое мне хорошо запомнилось. На собрании смоленских литераторов Твардовский читал свои новые стихи, и мы, участники собрания, обсуждали их. Среди прочитанных было стихотворение «Уборщица». По содержанию, да и по форме стихотворение самое незамысловатое. В нем говорилось о том, как уборщица приводит в порядок комнату, где только что окончилось заседание, как она ставит на место венские стулья, сдвинутые как попало. Но в незамысловатости стихотворения было нечто такое, что мог вложить в него только Твардовский. Уборщица ставила на место не просто венские стулья, а стулья еще теплые от только что сидевших на них людей. Заприметить подобную деталь и сказать о ней мог только поэт с большой поэтической зоркостью. Эта зоркость весьма характерна для поэзии Твардовского. Возьмите любое его произведение, и вы найдете в нем столько деталей, столько самых неожиданных красок! Мы сами наверняка не заметили бы этих деталей и красок, если бы нам не подсказал их Твардовский. И подобный «подсказ» начался у него еще в юные годы. Мне вспомнилось сейчас стихотворение Твардовского о наступлении осени, стихотворение, написанное в 1943 году. Начинается оно следующей строкой: В лесу заметней стала елка... Собственно, дальше об осеннем лесе можно и не говорить. Все ясно само по себе: листва облетела, деревья стоят почти голые. Лишь немногие желтые листки, оставшиеся на ветках, трепещут от ветра. Лес стал как бы прозрачным, он весь как бы просматривается насквозь. И в нем то тут, то там видна яркая зелень елки (слово «елка» Твардовский употребил как собирательное), той елки, которая летом была скрыта густо разросшейся листвой и только теперь «стала заметней». Пример этот, конечно, не единственный и не самый значительный. Но и он показывает, как зорко видел мир поэт Твардовский и как хорошо и достоверно описывал он то, что попадало в поле его зрения. Саша Твардовский не удержался все же в Смоленске — уж очень плохо приходилось ему там. И он решил попытать счастья в Москве. Как жилось ему в столице, я могу судить лишь по небольшому письму, которое получил от него, по-видимому, в начале тридцатого года (даты на письме нет, а конверт не сохранился). Кстати сказать, это письмо было самым первым, полученным мной от Твардовского. Вот что писал он мне: «Уважаемый Мих. Вас! Приветствую Вас от имени московского пролетариата. Я жив, здоров, очень весел. Всего этого желаю и вам. Михаил Васильевич! Напишите мне по возможности длинное письмо, в коем Вы отобразите текущие смоленские события, свою работу, т. д. и т. д. У нас в «Чудаке» идут стихи. Там же на днях появится мое «Варенье». Больше нигде мне не удалось приткнуть это стихотворение. В общем стишки мои идут помаленьку. Смотрите ближайшие № «Прожектора», «Огонька», «Октября». Работаю старательно, несмотря на не весьма удобные жилищные обстоятельства, ну, да на днях я поселюсь в своей отдельной комнате, где на двери будет укреплена дощечка:
А.Т.ТВАРДОВСКИЙ Пролет,поэт 19 лет Жму вашу трудовую руку! Так пишите, дорогой! Адрес: М-ва, 9, Тверская, 38, кв. 211».
Письмо Твардовского, хотя и было написано с юмором, даже с известной долей игривости, свидетельствовало все же о том, что жилось молодому поэту в Москве нелегко. Печатали его редко и мало, а той самой своей, отдельной комнаты, о которой писал с такой надеждой, он так и не дождался. И в тридцатом году «пролет, поэт 19 лет» (хотя тогда ему было уже двадцать) снова оказался в Смоленске. Он нашел себе работу в журнале «Западная область» (был такой журнал; тогда и сама область называлась не Смоленской, а Западной). Кроме работы в журнале молодой поэт часто ездил в командировки в качестве корреспондента газеты «Рабочий путь». Ездил он преимущественно в колхозы, писал корреспонденции, очерки и конечно же стихи. Но я в это время переехал на работу в Москву, и личные встречи с Александром Трифоновичем у меня прекратились. Но именно в эту пору между Твардовским и мною возникла та большая дружба, которая длилась несколько десятилетий. Пожалуй, началась она с переписки. Писали мы друг другу очень часто, рассказывали в письмах о своих делах, о планах на будущее, посылали друг другу стихи. И, конечно, помогали один другому всем, что только было в наших возможностях. Из Москвы я часто приезжал в Смоленск. Во время таких приездов мы с Твардовским были почти все время вместе. Вместе мы совершили и несколько поездок по Смоленской области. Дважды — летом тридцать шестого года — побывали в моих родных местах, во Всходском районе. Там Александр Трифонович на районном слете участников художественной самодеятельности, перед пятью тысячами собравшихся, с необычайно большим успехом читал главы из еще не напечатанной тогда «Страны Муравии». В 1935 году Александр Трифонович решил показать мне «свой» колхоз. «Своим» он называл его по той причине, что много раз бывал в нем, писал о нем, подолгу жил там. Колхоз этот, находившийся в селе Рибшево и получивший название «Память Ленина», Твардовский знал настолько хорошо, что лучше, вероятно, и нельзя знать. Он знал не только хозяйство колхоза, не только руководителей его во главе с председателем Дмитрием Прасоловым, но он знал всех колхозников и колхозниц, знал их характеры и наклонности, знал, кто и как жил раньше — до колхоза. В писательской среде мы много говорим и говорили, что писатель должен знать жизнь народа. Для Твардовского этой проблемы никогда не существовало. Жизнь деревни он знал во всех подробностях, знал даже то, что знать совсем не обязательно,— разные курьезные и некурьезные случаи из жизни колхозников. Приехав в Рибшево, мы остановились с ним в хате-лаборатории — никакой гостиницы в колхозе, конечно, не было. Утром я увидел, как присматривавший за лабораторией дед принес большую охапку сухих березовых дров и затопил русскую печь, которая занимала, пожалуй, четвертую часть площади всей хаты-лаборатории. Я удивился: зачем в такую жару (температура днем доходила до плюс тридцати градусов) надо топить печь, да еще такую большую? А потом шутливо спросил Твардовского: — Может, этот дед варит себе еду сразу на целую неделю? — Если б это так, то еще ничего б,— с некоторой загадочностью ответил Твардовский.— А то ведь он затопил печку и извел столько дров только затем, чтобы сварить себе на завтрак одно-единственное куриное яйцо. Вот он какой, дед! Признаться, я ни за что не заприметил бы, что дед топит огромную печь из-за одного яйца. А Твардовский примечал все, даже самые незначительные мелочи. Вспоминается и другой случай, связанный с поездкой в колхоз «Память Ленина». Еще раньше Твардовский писал мне, что в колхозе три автомашины — две грузовых и одна легковая. К слову легковая он прибавлял еще одно слово—«антилопа». В Рибшеве я вспомнил об «антилопе» и спросил у Александра Трифоновича, почему он называет легковую колхозную машину точно так же, как в книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок». И мой друг рассказал мне удивительную в своем роде историю. Еще во время первой мировой войны, по-видимому, летом семнадцатого года, молодой солдат-шофер угнал с фронта небольшой грузовичок и тайком, ночью, пригнал его в Рибшево, своему отцу. Той же ночью машину со всеми предосторожностями загнали в самый угол сенного сарая и забросали ее сеном. Машина была совсем ни к чему в крестьянском хозяйстве. Да и показывать ее было опасно. Но отец солдата все же никак не хотел расставаться с ней. «Может, на что пригодится»,— думал он и продолжал скрывать автомашину в сенном сарае. Так и простоял в нем фронтовой грузовичок более десяти лет. Он был обнаружен лишь тогда, когда началась коллективизация. Председатель колхоза Прасолов, как мог, привел в порядок эту неожиданно оказавшуюся в колхозе автомашину. Колхозный плотник сколотил из досок новый, уже «легковой» кузов, и машина заработала. Вот откуда взялась эта самая «антилопа», на которой Прасолов совершал свои служебные поездки. Ну, а название «антилопа» дал, конечно, Твардовский. Оно так понравилось колхозникам, что те иначе и не называли свою машину, как только «антилопой». История совершенно необычная и редкостная. Но Александр Трифонович знал и ее. Он, однако, не только рассказывал мне разные истории, имеющие отношение к колхозу «Память Ленина», но и показывал его, поскольку председатель уехал (на «антилопе»!) куда-то по делам и в Рибшеве его не было. Мы ходили с Александром Трифоновичем по полям и лугам, смотрели колхозное стадо, разговаривали с пастухом. Но с особой радостью показал мне Твардовский озеро, которого не было еще год тому назад. Оно образовалось по воле колхозников, соорудивших плотину на небольшой речке. Озеро большое, многоводное, красивое. В нем завелась уже и рыба. Несомненно, глубокое знание истории возникновения многих колхозов Смоленщины, знание жизни колхозников и натолкнуло Твардовского на мысль взяться за поэму «Страна Муравия». Писать это произведение он начал в тридцать четвертом году, когда ему было двадцать четыре года. И уже с первых глав «Страны Муравии» стало очевидным, с каким талантливым, я бы даже сказал— с каким особо талантливым и самобытным поэтом мы имеем дело. Еще не окончив поэмы, Твардовский часто читал мне то, что он уже успел написать. Эти чтения, проходившие то в Смоленске, куда приезжал я, то в Москве, куда приезжал иногда Твардовский, я очень любил: в них всегда открывалось что-то новое, чего ты еще не знал и о чем никто еще не писал. Главное же — не писал так, как мог написать лишь один Твардовский. А в тридцать шестом году Александр Трифонович читал «Страну Муравию» в Москве, в теперешнем Доме литераторов, в присутствии большого количества писателей. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что чтение это прошло не просто хорошо, оно прошло триумфально. «Страну Муравию» напечатал журнал «Красная новь». А автору поэмы, поступившему для продолжения образования в Институт философии, литературы и истории (сокращенно ИФЛИ), Союз писателей назначил особую стипендию. Поэма Твардовского сразу же получила широчайшее распространение. Высокую оценку дала ей и критика. И очень скоро «Страна Муравия» была включена в вузовские программы: студенты должны были изучать ее наряду с произведениями классиков и лучшими произведениями советской литературы. Создалось любопытное положение: студент Твардовский при окончании института (а он его окончил в 1939 году) на экзаменах мог вытащить такой билет, по которому он должен был бы рассказать экзаменаторам о произведении поэта А. Твардовского «Страна Муравия». Случай, как мне кажется, небывалый в истории литературы... Вот так пришел в нашу жизнь самый лучший наш поэт, поэт огромного таланта Александр Трифонович Твардовский. Зимой в начале 1967 года мне стало известно, что есть решение об издании четырехтомного собрания моих сочинений. Выпустить четырехтомник в свет должно было издательство «Художественная литература» в течение 1968—1969 годов. Это известие привез мне Александр Трифонович Твардовский, приехавший навестить меня в больнице, где я тогда находился. Я сразу же решил, что для четырехтомника напишу новую автобиографию, потому что прежние мои автобиографии были чрезвычайно коротки, «анкетны». Хотелось написать автобиографию более подробную, хотя и не чересчур длинную. Ее я и начал набрасывать, находясь еще в больнице. Но летом, когда было написано около 120—130 машинописных страниц, я понял, что выполнить свои намерения мне не удастся. Не удастся потому, во-первых, что если продолжать в том же духе, как я и начал, то было никак невозможно закончить ее к установленному сроку, то есть ко времени сдачи в издательство первого тома, который и должен был открываться, как это принято, автобиографией. Во-вторых, мое намерение не осуществилось бы и в том случае, если бы я успел дописать автобиографию к сроку: по-видимому, я, не рассчитав чего-то, начал писать чересчур подробно, и будь автобиография дописана, она одна заняла бы целый том. А это не входило ни в расчеты издательства, ни в мои собственные. Словом, новую автобиографию я отложил в сторону, ограничившись включением в первый том совсем небольшой автобиографии, написанной ранее. Вступительную статью к моему четырехтомному собранию сочинений согласился написать А. Т. Твардовский. Поэтому я подробно рассказывал ему, что будет включено в четырехтомник и что не войдет в него. Александр Трифонович знал также и о моей незаконченной автобиографии. И однажды это, кажется, было уже летом шестьдесят восьмого года — он попросил: — А ты все-таки дай мне прочесть, что ты там написал... Автобиография была ему послана. — Все то, что ты прислал мне, я прочитал. Это интересно и нужно. И написано на должном уровне. Тебе обязательно надо продолжить то, что ты начал,— посоветовал Твардовский.— Обязательно!.. — И уже в шутливом тоне добавил: — Я на корню покупаю все, что уже выросло и что ты еще вырастишь на своем поле, и буду печатать это в «Новом мире». И редактировать твою автобиографию буду я сам лично, если ты мне, конечно, доверяешь, — закончил он все в том же шутливом тоне. И я стал продолжать свои автобиографические записки, или даже автобиографические записи, как условно назвал их спервоначала. Писал я их и дома, писал, если было можно, и в больнице, куда в последние годы попадал, к сожалению, довольно часто. Перед сдачей в набор А. Т. Твардовский, и как редактор «Нового мира», и как редактор моего произведения, предложил мне: — Надо придумать какое-то название для твоих записок. Ну, что-нибудь вроде «Дороги жизни» либо «На ельнинских путях». Впрочем, и то, и другое плохо. Это я бухнул первое, что пришло в голову. Ты придумай что-нибудь получше, придумай такое, что определяло бы главную суть произведения и его характер... По возможности — даже и место действия... Да ты и сам поймешь, что тут нужно. На следующий день я послал в «Новый мир» несколько названий, в том числе и название «На Ельнинской земле». В записке я пояснил, что редакция может выбрать любое из названий, но что лично мне больше других нравится «На Ельнинской земле». Это название Александр Трифонович и оставил. Но по телефону сказал мне: — Кроме заголовка «На Ельнинской земле», по-моему, надо дать и подзаголовок, чтобы окончательно определить характер произведения. Твое «автобиографические записи» для подзаголовка не годится. «Записи» и «записки» — и то, и другое «не звучит». Я предлагаю так: «Автобиографические страницы». Этот подзаголовок определяет не только то, о чем пойдет речь, но он также включает в себя и другой смысл: он показывает, например, что это не вся автобиография, а лишь ее «страницы» и что этих «страниц» может быть и больше, и меньше. Словом, ты можешь закончить какой угодно «страницей». А после, если надо, напишешь другие «страницы», и они тоже будут к месту. Я сразу же согласился на подзаголовок, предложенный редактором «Нового мира». Редактором А. Т. Твардовский был чрезвычайно внимательным, умным и чутким. Он хорошо понимал и чувствовал то, что редактировал. И его редактирование могло принести произведению лишь большую пользу и никогда не приносило вреда. Сколько-нибудь значительных поправок в тексте моих «страниц» он не сделал. За исключением каких-то мелочей я вполне согласился с Александром Трифоновичем. «Автобиографические страницы» — столько, сколько я успел их написать,— появились в «Новом мире». Продолжение «страниц» я смог начать лишь летом 1970 года, и напечатано это продолжение было в журнале «Дружба народов». Александр Трифонович этого уже не видел. Он тяжело и долго болел. 1972—1973
|
||||||