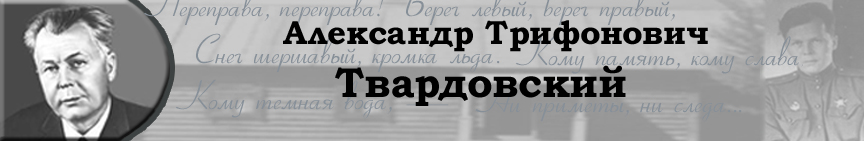 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
ТЕМЫ И МОТИВЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ |
|||||||
|
Так опять осуществляется связь времен. Поэтическое время остается хроникальным, «фронтовая хроника» продолжает и сменяет «сельскую хронику». Но еще больше подчеркнуто движение времени, как «теперь», сейчас прослеживаемого, и поэтому впервые может возникнуть поэма, начатая с середины и кончающаяся серединой. И в разорванное и ускоренное войной движение настоящего времени включаются потоки разных времен, разных людей и событий. И впервые резко выступает время высказывания и воспоминания авторского «я», — его соотнесенность с другими персонажами, событиями, временами. И все формы памяти, времени превращаются в мотив жизни на земле, ее стойкости, героизма, — общности людей в борьбе против нелюдей. Продолжается и расширяется тома жизни и смерти, самая вечная тема во всей сегодняшней конкретности этой теперешней битвы. Тема, как мы видели, возникла у Твардовского очень рано. А теперь соприкосновение жизни и смерти проходит через каждый бегущий день, даже час, миг. Максимальное напряжение жизни и максимальное напряжение смерти. Идет «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле», и это — «смертельная страда». И не только в боях. Впервые появляется и обобщающий образ самой Смерти, воплощенный в некой особой фигуре, как бы личности, в знаменитой главе «Василия Теркина» «Смерть и воин». Если раньше у Твардовского смерть всегда была безликой и единичной, то теперь она получает черты собирательной антиличности, воплощенного антимира. Мы ее слышим; мы слышим, как она говорит с живым человеком; слышим ее вкрадчивую, как бы рассудительную, как бы убедительную, как бы даже жалостливую речь. Мы ее не видим прямо в этой сцене, она не имеет зримого облика, хотя может не только говорить, но и двигаться, идти следом за бойцом. Но она может принимать и вполне зримую, ощутимую человекоподобную форму того фашистского солдата, который спокойно, не торопясь, застрелил старуху крестьянку («Рассказ старика»); того, другого фашистского солдата, сытого, береженого, который подло и злобно дрался с Теркиным. И главное в Смерти — пустоутробие, мнимость. Ложь и злоба в форме правды и жалости. Безликость и в форме псевдоличности. Однако в одном Смерть в этом разговоре с Теркиным правдива — она не соглашается допустить его к человеческой общности хотя бы на один день, о чем просит ее Теркин. Смерть может дать только одиночество. Отметим, что и в эту сцену входит мотив дома, словами одного из бойцов-спаситеей: «...живой спешит до места, — //Мертвый дома — где ни есть». Смерть — это одиночество и бездомность. А жизнь — это общность, конкретность человеческой связи и вместе с тем — свое «место», свой дом, свое личное. «И подумала впервые // Смерть, следя со стороны: // «До чего ж они, живые, // Меж собой свои — дружны. // Потому и с одиночкой // Сладить надобно суметь, // Нехотя даешь отсрочку». // И, вздохнув, отстала Смерть». Товарищество живых — главная сила, противостоящая смерти, фашизму, войне. Ибо жизнь на земле — это мир и труд, сочеловечность. Мир вынужден отстаивать себя в противоположной себе форме, на войну отвечать войной, на смерть—смертью тем, кто несет смерть. «Я — любитель жизни мирной // На войне пою войну». Но нигде Твардовский не впадает в так называемую романтику войны. Война — ужасна, «жесточе нету слова». Война только неизбежная «работа». Она требует подвига за правое дело, за мир, потому и «святее нету слова», чем война, потому и нет ничего святей и чище, чем дружба воинов мира. В каждом подвиге есть романтика, но это романтика именно подвига, самоотверженности, общности людей, а не самой войны. И в подвиге Твардовский прежде всего подчеркивает его суровую, без прикрас, необходимость, даже подчас, так сказать, деловитость, и его массовость, ибо подвиг совершается ради человеческой общности человеческой общностью. Тема подвига, героизма — в разных формах проходит и через ряд стихов Твардовского предыдущего периода. Но теперь подвиг стал повседневным условием и обязанностью жизни, ее труда. Подвиг в самом полном своем проявлении, включая отдачу своей жизни ради победы жизни над смертью других. Рядовой шофер Артюх совершил подвиг, требовавший исключительной храбрости и самоотверженности, человек шел па почти верную смерть и победил. И совершил подвиг по собственной инициативе. «Для такого дела // Нужен был герой». И герой нашелся. Заметьте, подвиг — это дело. Выжил Артюх только благодаря своей храбрости, смутившей врага. Но когда после подвига его спрашивали: «Что ж, не страшно было? // — Страшно,— говорит. // — Страшно, только нужно... // И об этом смолк. // Служба— это служба, // Подвиг — это долг». И все стихи и проза Твардовского этих лет — это небывалый в истории литературы эпос и лирика подвига, как именно самого массового, всенародного, непреодолимо нужного дела, труда, долга жизни. Но Твардовский показывает, что подвиг стал не только долгом, что он стал бытом. Тема подвига как труда и быта была темой не только Твардовского, а всей военной поэзии и прозы. Можно отметить великолепное стихотворение А. Гитовича «Разведчик», изображающее подпит как труд в его неприкрашенной реальности. Но Твардовский, как никто, сумел показать соединение в подвиге и самого прозаического, и самого поэтического, и самого великого в том, что объединяет это величие с любым настоящим человеком. Тема и пафос массового героизма у Твардовского усиливают тему и пафос самоценности каждого отдельного человека, того безвестного бойца-парнишки, который погиб на «войне незнаменитой». Именно не безликость, не простая суммарность, а конкретная многоликость массового героизма является огромным достижением военного творчества Твардовского. Даже многие безымянные персонажи не безлики, а многие и многолики, многосоставны, как тот, например, «солдат-сирота». Это соединение индивидуальности и всеобщности и в коллективных, собирательных, и в отдельных персонажах Твардовского представляет собой дальнейшее развитие патетических характеров, в понимании этого термина Гоголем и Белинским, о которых говорилось выше. Их пафос становится еще более многосоставным. И еще более глубинным, напряженным, широким. В некоторых очерках Твардовского даже подчеркивается, как основной патриотический пафос может овладевать и некой, казалось бы, далекой от патетического начала личностью, вроде той, продувной, хотя, в сущности, и доброй «бабы»— тети Зои. Теснота и сложность человеческих взаимодействий вместе с размахом их далей во много раз увеличиваются. И в лирике, и в поэмах, и в прозе. Сами способы типизации и персонификации становятся более разнообразными. Появляются, с одной стороны, совсем условные, обобщенные, символические, и вместе с тем разномасштабные персонажи — и та Смерть, которая разговаривает с Теркиным, и тот новорожденный мальчик, который произносит как бы целую речь о своем праве на жизнь при своем появлении на свет. Одним из главных персонажей становится и само авторское «я». В нем нет признаков особого лирического героя, отличающегося от автора. Наоборот, стихи и проза становятся даже более автобиографически достоверными, чем раньше. И это «я» гораздо более активно, более прямо участвует в движении поэтического события. Твардовский возрождает и расширяет свое раннее авторское «я» периода еще 1928—1930 годов, расширяет тему и активность того «я», которое выступало в таких стихотворениях 30-х годов, как «Путник» или «Я иду и радуюсь». Авторское «я» теперь непосредственно выступает и в крупных повествовательных произведениях, особенно в некоторых военных очерках, в резком отличии от очерков 30-х годов. Увеличивается и амплитуда наборов признаков всех персонажей, включая авторский образ. И главного многостороннего героического, «святого и грешного» народного характера. И вместе с тем увеличивается сосредоточенность всего этого многообразия в основном всеобщем массовом Деле, массовом подвиге. Небывалое внимание уделяется и неповторимости каждого отдельного участника подвига, и самой цене подвига. И стихи, и проза переполнены смертями, страданиями, в соответствии с действительностью этой войны, самой страшной в истории человечества и по количеству жертв, и по бездушию, свирепости врага. Твардовский, однако, обходит тему, которая впоследствии разрабатывалась нашей послевоенной прозой о войне — все ли жертвы и страдания были необходимыми, нужными? Чуть-чуть касается Твардовский этих вопросов лишь в некоторых местах своих карельских дневников. С точки зрения основной всеобщей цели, ее правоты ему не представлялось нужным касаться этих вопросов. Главным было именно воспроизвести массовость героизма во всей реальности и пережитых народом жертв, страданий и реальности единой веры и воли к победе. И впервые сам воюющий народ выступил как коллективное собирательное лицо, народный герой и заговорил о себе языком не только хотя бы и самой великолепной прозы, а языком собственно поэзии, языком стиха, впитавшего и язык прозы.
|
||||||