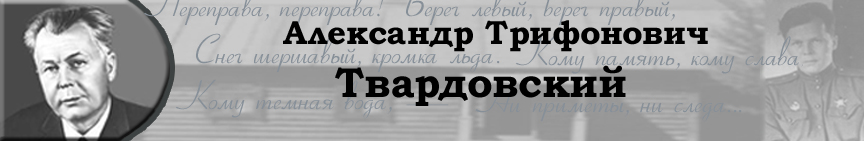 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс ׀ О твардовском |
|||||||
|
ТЕМЫ И МОТИВЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ |
|||||||
|
А что в семье главное? Любовь. И новая жизнь мотива любви проходит через военное творчество. Любовь прежде всего матери к детям, жены к мужу. В «Доме у дороги» это центральная тема. В «Василии Теркине» есть специальная глава «О любви». «Да, друзья, любовь жены, — //Кто не знал, проверьте, — //На войне сильней войны // И, быть может, смерти». Жена обычно изображается как мать, мать детей любимого человека. Женский образ выступает в своей повседневной, прозаической, подчас суровой жизни, помноженной на тяготы военного времени. Боец, получив письмо, видит облик прежде всего даже не лица, не глаз, а «тех далеких рук, // Дорогих усталых рук // В трещинках по коже». Рук не жены-возлюбленной, а жены-подруги, трудовой женщины, хозяйки, матери. Это сочетание любви со всей неприкрашенной конкретностью труда и забот, в военное время особенно тяжелых, по-новому раскрывает благородство, силу чувства. Но есть и тема судьбы тех молодых людей на войне, которые еще не знают другой любви, кроме материнской или сестринской. И вот — полушутливый, но глубоко сердечный призыв: «Полюбите вы его, // Девушки, ей-богу. // Полюбите молодца, // Сердце подарите. // До победного конца // Верно полюбите!» Мотивы семьи расширяются в мотивы дружбы, товарищества, землячества, фронтового братства. Солдатскому товариществу, солдатской дружбе в той или иной мере посвящено большинство стихотворений, они проходят через обе поэмы. Ибо ведь в бою взвод солдат — это «сорок душ — одна душа»; а еще большая общность — вся полковая часть. Как пишет Теркин, «покуда что» — «родная часть» «Для меня — солдата // Все на свете, // Все сполна: // И родная сторона, // И семья, и хата». Фронтовое братство также изображено с той же деловитой конкретностью. Прежде всего — взаимная выручка, помощь, особенно — любому раненому товарищу. (Например, в стихотворении «Давай-ка, товарищ, вставай, помогу».) Но и товарищество бытовое, трудовое и просто товарищество разговора, совместного отдыха, даже совместного мытья в бане, так поэтично описанного в последней главе «Василия Теркина». Собственно личная дружба, имярека с имяреком, хоть, вероятно, и существует, ничуть не ослабевает, но как-то растворяется в общенародном товариществе. Нет темы отдельного личного друга, хотя много друзей. Рядом с Теркиным есть другой Теркин, вce разные, и все сходные. И сегодняшний случайный попутчик в походе, или в отступлении, или в какой-то другой передряге, или, наоборот, в отдыхе, в радости становится на этот момент близким и остается в памяти как свой. А с другой стороны, и та основная исходная кровная близость людей, внутри семьи в самом узком, тесном смысле слова — она также приобретает черты нового, более широкого, подчас даже фронтового товарищества. Отсюда тема стихотворения «Отец и сын» («Быть может, все несчастье...», 1943). Дети становятся не просто детьми, а «сынами... отчизны родной», как говорится в еще одном стихотворении. Вспомните для сравнения буквально ту же формулу отца-хуторянина в «Братьях». Поучительное переосмысление темы! И появляется еще одна подтема этой семейной темы: дети на войне. Дети и как жертвы войны, и как ее участники, и как проявление силы жизни, ее продолжения, несмотря ни на что. О детях, как жертвах, особенно сильно сказано в двух почти одновременно написанных стихотворениях 1943 года «Две строчки» и «В пилотке мальчик босоногий». А дети в «Доме у дороги», в том числе мальчик, только что родившийся в неволе,— это символ и слабости, и победоносности жизни, права жизни быть жизнью, права человека быть «жителем» этого мира. Гак в разных формах человеческой общности — семьи, товарищества, фронтового братства, землячества, общего для всех патриотического единства — отстаивает себя, свой дом и дороги, жизнь на земле. И —перекликается с другими формами жизни, с тем скворцом и его скворчатами. С той ласточкой. С тем петухом, который никак не хотел помирать («Со слов старушки»), И даже с тем жеребенком, который во время финской войны «от своих отбился где-то» и прибился к нашим фронтовым кухням. Со всей жизнью природы. «Только теперь, кажется, научился любить природу, не только загорьевскую, смоленскую, не только даже русскую, а всю, какая есть на божьем свете. Любить, не боясь в чем-то утратиться, не изменяя ничего и не томясь изменой, — свободно». Так писал о себе Твардовский в годы войны в очерке «По литовской земле». Все-таки на первом плане его родная, среднерусская природа — «сторона моя лесная», где «каждый кустик мне родня». Но действительно взгляд на природу становится более свободным, широким, ассоциативным, обостренным. И в этом взгляде также проявляется война. Вот «Ноябрь» (1943)—очень конкретная и точная зарисовка, предельно лаконичная (шесть строчек), с некой новой суровой наблюдательностью: «Обдутый изморозью золкой, // Дрожит, свистит лозовый куст», и со своеобразной психологической поведенческой метафорой: «В лесу заметней стала елка, // Он прибран засветло и пуст». Отблеск переживаний военного времени здесь проявляется и в самом отборе пейзажа, необычном для Твардовского,— угрюмый, осенний, обдутый суровым холодным ветром лес. И напоминании, что этот лозовый куст — «забитый грязью у поселка». Сама поэтика изображения к обычной уже в пейзажной лирике Твардовского динамической сосредоточенности, искусству отбора выразительных деталей добавляет более напряженную метафоричность, ассоциативность, психологическую глубину. Явления природы часто сопоставлены с войной — как жизнь на земле с антижизныо. Или как элемент воспоминания о родной стороне. Или как фон, аккомпанемент военной жизни, быта или боя (например, — в «Переправе»). И характерен мотив искореженной, «изувеченной», «оскорбленной» войной природы: «Под вражьим тяжким колесом // Стонала мать-земля». Или в другом варианте — «трава, сожженная живьем». Или в очерке «В краю опустевших лесов». И в третьем варианте — контраст и параллель с земледельческим пейзажем Твардовского 30-х годов — «густая, дремучая трава», «уставшая думать о косе». И мучительный стон матери-земли прямо перекликается с муками первых мучеников войны и горем старухи матери. Как и в предыдущие периоды, Твардовского не занимают внутренние антагонизмы жизни природы. Но взаимодействие природы и человека изображено более сложным, даже трагическим. Ибо, кроме нормальных людей, есть «нелюди», которые губят и людей, и природу. Ведь действительно что-то страшное есть и в том контрасте между расцветающими вновь на пожарищах садами и обгоравшими деревьями и рядом — типичным бытовым пейзажем войны — «Кирпичи, столбы, солома, // Уцелевший угол дома, // Посреди села — дыра,— //Бомба памяти дала» («И цветут — и это страшно», 1942). Но сквозь страшное проглядывает реальная жизненная сила. Контраст между жизнью природы и войной, как смертью, выступает в форме своеобразной антисимметрии. Так оправдалась «отцов и прадедов примета» — особая сила жизни природы проявилась именно и лето начала войны («Отцов и прадедов примета»). Народная примета подкреплена скрытой поэтической .аналогией — с жарой перед грозой. Это писалось в 1942 году, через год после начала войны. А в 1945 году, сразу же после ее окончания: «Перед войной, как будто в знак беды, // Чтоб легче не была, явившись в новости, // Морозами неслыханной суровости // Пожгло и уничтожило сады». Причем именно «избранные, лучшие // Постиг деревья гибельный удар». Здесь уже не антисимметрия, а диссимметрия, — подобие и отличие судеб человека и природы. И эти судьбы уже освещены воспоминанием, движением времени. «Прошли года» — и «деревья умерщвленные // С нежданной силой ожили опять». Но параллелизм более сложен, ибо осталась неутешная материнская память, неожиданно возникшая в заключительной строчке — «А ты все плачешь, мать». Природа предстает и как жизнеутверждающее начало, возрождающееся после любого удара, и как сопутствующая человеку жизнь, страдающая вместе с ним и от «нелюдей», и от стихийных бедствий. И как нечто более загадочное, таинственное, полное контрастно-параллельных человеку сил, своеобразных предчувствий. И как некое стихийное движение, возвратное и поступательное. В отличие от человека — забывающее о пережитом. Но есть общая память матери-Родины, и отца-народа, и поэта народа — Твардовского, которая их объединяет. Как и раньше, есть в природе у Твардовского некое домашнее и трудовое начало, и теперь, пройдя через трагизм войны, это начало должно отстаивать себя вместе с человеком и его памятью. Свойство памяти как глубочайшей формы человеческой общности и связи времен теперь продолжается и усложняется. И как серия воспоминаний во время войны о том, что было до нее — о мирной жизни, доме, семье, труде и т. д. И как память уже во время войны о самой войне — новый мотив «жестокой памяти», возникающей уже в первые годы, как память о погибших. Как память о том мальчике-бойце, погибшем на «войне незнаменитой» («Две строчки»); как память о других погибших бойцах в ряде других стихотворений. И как воспоминания о погибших семьях, возникновение темы «солдата-сироты». И горькая авторская память о самой памяти, той безвозвратно утраченной светлой памяти, о всем том, «чего я вспомнить снова, не вспомнив немца, не могу». И внутри этой главной, жестокой памяти — все же мотивы светлой памяти, не только о довоенном прошлом, но и о радостях, человеческих отношениях самого военного времени. В поэтику памяти, как движения времени, включены и мечты о будущем. О возвращении домой. О послевоенной жизни после победы. И в этом будущем — опять возникает мотив памяти. Будущей памяти самого героя, автора или потомка о войне, о пережитом («Здесь немцы были», 1944, и др.). А самый процесс памяти становится еще более многосоставным. Появляются стихотворения, в которых память, воспоминание выступают как особый миг, мгновенная вспышка, освещающая большое пространство личной и народной жизни, судьбы, истории. Например, в том же стихотворении «Две строчки». Такие миги могут многократно повторяться, ведут за собой цепочки ассоциаций, переживаний прошлого и настоящего, в их слитности. Таков лейтмотив-воспоминание «Коси, коса, пока роса» в «Доме у дороги». Возникает и новое чувство ответственности живых людей перед мертвыми, перед памятью о них. Чувство, проходящее далее через все творчество Твардовского.
|
||||||