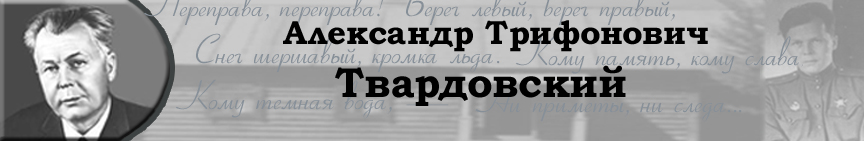 |
|||||||
|
На главную ׀ Фотогалерея ׀ Литературная премия ׀ Мемориальный комплекс |
|||||||
|
Стихотворение "Братья" |
|||||||
|
После этой кульминационной строфы возникает четвертая — микроэпизод, параллельно-контрастный предыдущим. Опять «мы» и аналогичное по смыслу «вдвоем»; но эти будущие большие женатые люди, наследники здесь опять, как в первых двух строчках стихотворения, просто малые ребятишки. Снят они еще в сарае на сеновале, как спят обычно дети летом в деревне, и засыпают они «несмело». Происходит возврат от иллюзий к реальности. И последние две строчки строфы дают новую — «как бы аккомпанирующую, конкретизирующую и вместе с тем концентрирующую скрытый смысл деталь. Странно «сверчал одинокий кузнечик», и преувеличенно шумело горячее сено. И в этом чувстве некой тревоги, боязни одиночества выявляется совсем другое, подспудное детское переживание и подспудная струя самого воспоминания сегодняшнего брата. А образ отца уходит в темноту. После паузы, акцептированной многоточием, пятая строфа — новый микроэпизод. Новый кадр всплывшего воспоминания. Еще большая концентрация и детализация микрообразов: рассказчик помнит даже то, что грибы были побелевшими от дождя. Детали насчет грибов и желудей — это твардовские бесценные подробности. В них быт деревенских ребятишек, в котором развлечение совпадает с хозяйственным делом, и один из штрихов поэзии детства «сынов». А во втором двустишии — еще одно детское удовольствие — «желуди», притом желуди не всяких, а именно «наших» дубов. Значит, кроме ельника, и дубы росли на этом хуторе. И те же два ключевых слова — «мы» и «наши». А в последней строке строфы — первое прямое высказывание лирического чувства автора и как будто по самому незначительному поводу, но с восклицательным знаком и с многоточием,— «в детстве вкусные желуди были!». Инверсия подчеркивает эмоциональность возгласа. И выделено повтором новое ключевое слово. Самая малая деталь всего стихотворения. Но именно в ней — новая озаряющая подробность как заключительная метонимия того светлого, что было в этом деревенском детстве, несмотря на собственнические иллюзии отца. Но заметьте, в этих двух строфах ничего связанного с этим «собственничеством», кроме определения «дубов», как «наших», уже нет. Здесь просто любовь к родному дому, местности. В то же время— вслушайтесь в интонацию, в последнюю восклицательную фразу, немножко странную в устах человека, вспоминающего через семнадцать лет свое детство, — как будто ничего лучшего нельзя вспомнить. Тем более, что только в детстве могут казаться желуди вкусными... И только в том детстве... В контрасте между незначительностью деталей и силой переживания, в параллелизме и противоположности микроэпизодов последней строфы со всем предыдущим яснее нарастает та субинтонация, которая двигалась вместе с нами во всем стихотворении. Яснее оттенок и грусти, и какой-то грустной иронии, и еще чего-то невысказанного, томительного, тревожного. ...И вот после этой малой, но непропорционально себе значащей детали — обрыв интонации, пауза. И затем — совсем неожиданно — последняя строфа. Впрочем, ее первые строчки не так уж неожиданны. Естественный ход потока сознания ведет к тому, что после этих желудей и дубов память возвращается к самому факту воспоминания, к тому, что было прожито, как целое. И повторяет то, с чего это воспоминание началось, — с исходной временной точки, отрезка. А следующая строка дает естественное обобщение потока вспомянутого, опять — «мы», и эти «мы» «друг друга любили и знали». Параллелизм и контраст с первой строчкой первой строфы. Там был упор на то, что мы любили свой хутор, здесь на то, что любили и знали друг друга. Два главных и простейших определения братства. Но почему вдруг пришлось вспоминающему напоминать себе о том, о чем уже сказано? Как будто все стихотворение завершается этими строчками, как витком спирали. И на вопрос отвечает — резкий разрыв внутри строфы. Но — вдруг — две последние строчки. Вдруг — это неожиданное обращение — Что ж ты, брат? Как ты, брат? Где ж ты, брат? Это параллель и контраст с тем отцовским обращением к сынам. И заключительная строчка, в которой всплывает наверх весь ход — и воспоминания, и теперешнего переживания того, кто вспоминает. Парадоксальный случай — концовка стихотворения является переходом к теме, о которой ни звука не было прямо сказано во всем стихотворении. Вместе с тем концовка логически завершает все движение интонации, вскрывает скрытый, напряженный, безответный вопрос-перекличку, который присутствовал и двигался во всем потоке сознания вспоминающего, потоке стиха. Вскрывает параллелизм и контраст трех основных персонажей, их взаимного движения — отца и сыновей, брата и брата. Обнажает это силой взрывной волны. И вот явно выходит на авансцену лирический рассказчик, — прорывается его прямое, горькое и страстное лирическое высказывание, хотя в форме обращения к другому брату. Непосредственно совмещаются два пласта времени — два психологических состояния — воспоминание о детстве и теперешняя травма, вопрос о судьбе брата, тревога и неизвестность, и два пласта истории трех человеческих жизней и всей этой семьи. И сливается в последнем вопросе исключительное многообразие чувства, интонации — и вопрос, и тоска, и тревога, и горькая ирония, и примесь светлой грусти, скорби, кровного, сердечного чувства, незатухающей любви и жалости, вопрос и призыв — к кому-то. И перечитывая еще раз сначала все стихотворение, сопереживаем не только трагическую иронию судьбы над несовершившимися ложными надеждами. Не только пересмотр иллюзий детей, и тем более отца. Не только пересмотр границ той любви братьев, которая была неотделима от любви к своему хутору, ельнику и шишкам. Но и правду, и силу братства, семьи, любви человека к своему кровному, родному, памяти, связи времен, связи со своими истоками. Отсюда — щемящая музыка этого рассказа о себе, разговора с собой и отсутствующими своими, со своим прошлым и настоящим. Она выражена и всей звуковой структурой, системой повторов, перекличек, нарастаний — смысловых, эмоциональных, лексических, синтаксических, ритмических, фонических. И отметим особую роль ключевых слов («мы», «сыны», «брат», «свой»). В стихотворении из двадцати четырех строк более половины состоит из повторяющихся и несколько варьирующих звуковых, синтаксических групп, которые вместе с тем связаны общим крупным ритмом движения интонации, с двумя наиболее резкими ее поворотами, отражающими и двойное движение всего смысла. Это опять пример антисимметричного и дисимметричного строения, причем и синхронного, и диахронного. Стоит теперь сравнить некоторые черты этого стихотворения с «Гостем». Вся структура менее жесткая, более свободная. Более ассоциативное, раскованное, лирическое мышление. Куски воспоминаний движутся без видимой логической связи, как прерывистый поток, внешне алогичный в своей широкой многосоставной художественной логике, с разрывами цепочки, хотя звенья соединены невидимым ходом. Поэтика «Братьев» в этом отношении даже несколько отличается от поэтики большинства стихов Твардовского 30-х годов и предвосхищает его поэтику 60-х годов. В первопечатном тексте 1937 года и в ряде вариантов (вплоть до 1959 года) Твардовский стремился яснее показать невидимое, разъяснить в соответствии со схемами 30-х годов. В откинутых вариантах — характеристика взрослого брата, который стремился продолжать собственнический путь отца, а лирическое «я» с ним порвало; затем все-таки его, по принятым тогда представлениям, перевоспитание, вступление па правильный путь и новое соединение братьев. И готовность обоих быть достойными сынами Родины, которая заменяет им отца и строго-ласково их вопрошает. И детские желуди тоже фигурировали, не отбрасывались вместе с хуторскими иллюзиями. Все это было написано хорошо. И все-таки гораздо слабее. Твардовский это продолжение отбросил. Понял, что ответ на вопрос оставался более сложным, чем ему хотелось представить себе в 1937 году, и что в продолжении стихотворения была уже рассудочная заданность переживания. И в окончательном варианте осталась подлинная полная художественная правда, которая содержала в себе и неоднозначность решения вопроса.
Перейти на страницу -> 1
|
||||||